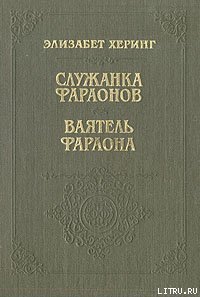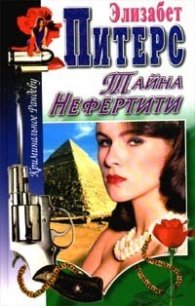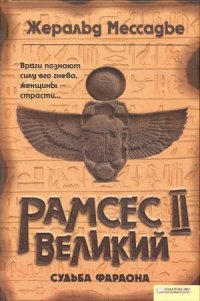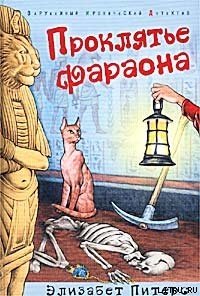Служанка фараонов - Херинг Элизабет (мир книг TXT) 📗
Я целиком отдалась пению и под конец так ушла в себя, как будто меня действительно схватил ненасытный. Едва ли я заметила, что прошло какое-то время, прежде чем со всех сторон раздались рукоплескания, царица бросила мне цветок лотоса из букета, который ей подарил паж.
Но когда умолкли возгласы и немного улеглось мое замешательство, я услышала, как громкий, звучный голос произнес холодно и невозмутимо:
– Это одна из тех песен, что поют девки, которые приходят из презренного Речену, они не подобают певице Амона!
Я стояла как будто пораженная громом. И это сказал он, сам Тутмос, и сразу же спокойно повернулся к одному из слуг! В это время Хатшепсут чтобы не показывать, как она была раздосадована тем, что присутствовавшие жрецы закивали в знак согласия с молодым царем, – с равнодушным видом взяла стоявший перед ней кубок и пригубила от него, как будто ничего не произошло.
Я взяла лютню и вышла из зала. Меня никто не удерживал, а арфисты и флейтисты начали медленно и чинно играть старинные мелодии, провожая меня торжествующими взглядами, пока я не скрылась за колоннами.
Этот случай так глубоко задел меня, что я решила больше не ходить к смоковнице. Может быть, нечаянно я попала своей песней прямо в цель. Может быть, действительно было бы лучше тихо и незаметно погрузиться в реку, а поджидавшая меня там пасть оказалась бы не такой жестокой, как…
Нефру-ра тоже вернулась в свою комнату до того, как все встали из-за стола, а когда я предложила ей свои услуги, она отослала меня. Как только я могла спеть эту песню, которая причинила ей, должно быть, такую же боль, как мне слова царя?
Спустя несколько дней царица одна, без свиты, пришла в покои своей дочери. Аменет как раз отсутствовала, о чем, я думаю, Хатшепсут знала, и это было ей кстати. Я не знаю, отослала ли она меня только потому, что хотела побыть наедине с дочерью, или действительно должна была передать срочное послание – во всяком случае, она сунула мне в руку полоску папируса, свернутую и скрепленную печатью, и сказала: «Отнеси это сыну…» Исиды, вероятно, хотела она сказать, но в последний момент удержалась от этих пренебрежительных слов и добавила: «царя».
Папирус жег мне руки. Казалось, длинные коридоры и дворцовые залы с колоннами не кончатся. А потом мне еще пришлось выйти в полуденный зной внутреннего двора, потому что покои Тутмоса находились на противоположном конце дворца – и мое сердце бешено стучало, хотя я уже сто раз говорила себе, что он просто возьмет у меня из рук папирус и знаком даст понять, что я могу идти.
Произошло же нечто иное. Вообще для моих отношений с Тутмосом было примечательно, что всегда происходило противоположное тому, что я представляла – на что надеялась или чего опасалась.
Когда я вошла в комнату, царь был один. Он сидел и читал свиток. Услышав шаги, он не взглянул на меня, а только сказал:
– Хорошо, Руи! Поставь таз с водой вон там!
– Это не Руи… – ответила я тихо, – это Мерит!
Его лицо покраснело от гнева.
– Разве я тебе не говорил…
– Меня послала царица, чтобы вручить вот это! – Я собиралась уже отвернуться, чтобы скрыть слезы.
– Царица… послала тебя… ко мне, Мерит-ра? – Его голос звучал совсем по-другому. Он взял меня за руку. – Значит, не напрасно я обидел тебя… на днях… а ты пела чудесно!
Он поднял меня обеими руками высоко в воздух и понес в альков, где за тяжелыми занавесями стояло его ложе.
– Поставь таз там! – крикнул он, услышав, что идет слуга. – И можешь идти, ты мне сегодня больше не нужен!
Он вышел еще раз в переднюю комнату, чтобы убедиться, не остался ли там Руи и не подслушивает ли он. Я ждала его с бьющимся сердцем, а он, оказавшись передо мной, начал петь. Хотя голос у него был звучный и мужественный, но слух не совсем точный, и это делало его пение удивительно трогательным:
– Ну вот, – сказал он, кончив петь, – теперь ты сделала из меня певца любви! Высокая должность! – Он засмеялся. Это прозвучало чуть ли не сердито.
С тех пор царица постоянно посылала меня к Тутмосу с каким-нибудь поручением. Он утверждал, что она хотела через меня побольше выведать о нем, и всегда давал мне совершенно точные указания, что мне сообщать царице. Еще он говорил: она потому посылала меня, что была уверена в моей ненависти к нему; ведь ни одна женщина не способна простить, если задето ее тщеславие; а теперь я должна понять, почему он произнес тогда эти обидные слова. Да, я поняла и простила, но эти его слова еще и сегодня я не могу вспоминать без боли.
Но даже они не так огорчили меня, как другое его замечание. Тутмос произнес его не при всех, да оно и не предназначалось для моих ушей, но впервые заронило в мою душу сомнение, так ли уж искренно он относится ко мне. Однажды меня снова послали к Тутмосу; я застала царя за игрой в шашки с одним из его друзей. Я уже не раз видела здесь этого человека, который не занимал никакой должности при дворе и был всего лишь сыном мелкого военного писца из провинции. Но я знала также, что не должна называть царице его имени, а если – как часто это бывало – она спросит, кто был у царя, назвать кого-нибудь другого. Однако, выходя, я невольно замедлила шаг, просто чтобы подольше послушать звук его голоса, и услышала, как его друг сказал:
– Я уже не раз видел эту девушку у тебя. А тебе известно, что она пользуется доверием Нефру-ра и царицы?
– Я знаю это, – ответил Тутмос, – и именно поэтому я с удовольствием вижу ее у себя.
Именно поэтому? Именно поэтому? Не выведывал ли он у меня о Сенмуте и Нефру-ра и о царице точно так же, как царица расспрашивала меня о нем? Может быть, именно по этой причине он?..
В тот день я потеряла свою непосредственность в отношениях с ним и, сколько потом ни старалась, так и не смогла полностью обрести ее вновь. Если до сих пор, когда меня посылала царица, я спешила к нему, как голубка в свое гнездо, то теперь я не могла войти к нему в комнату, не замедлив шага. Если прежде я, не задумываясь, отвечала на все его вопросы, то теперь каждый раз мне приходилось обдумывать: «Каковы истинные причины, почему он хочет это знать?» И даже в наши ласки, в наши поцелуи и объятия примешивались теперь горькие капли. Не повторялись ли все чаще мгновения, когда в редкие часы нашего уединения у меня появлялось ощущение, что соприкасаются только наши тела, души же остаются чужими?
Царь любил охотиться на птиц. Иногда ему удавалось отделаться от сопровождавших его пажей, а я ждала его на условленном месте в речных зарослях. У моего брата была лодка, которой я могла пользоваться: мы ставили обе лодки рядом и я перепрыгивала к нему.
Чтобы не привлекать внимания, я никогда не пела. Мне приходилось садиться на корточки у его ног, а рядом стояла наготове связка тростника, чтобы прикрыть меня при любом подозрительном шуме. Однако обычно слышались лишь пронзительные крики птиц, испуганно летавших перед своими гнездами, да писк птенцов, звавших матерей. То и дело рядом с нами лениво показывалась из воды голова бегемота, открывалась огромная пасть. Но как только царь хватался за гарпун, я отводила его руку. Зачем убивать то, что радуется жизни?
– Значит, Мерит-ра, жизнь радует тебя?
Нет, за этим вопросом не крылось ничего, кроме легкой грусти. Но разве существовал вообще кто-то, кому бы не нравилось жить? Разве каждый день не светит солнце, разве над водой не пробегает свежий ветерок и разве не стало бы легче у нас на сердце, если бы… да, если бы…