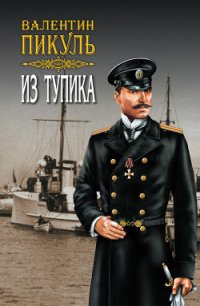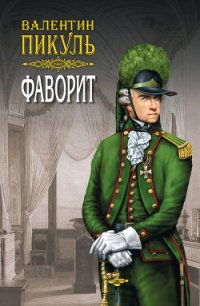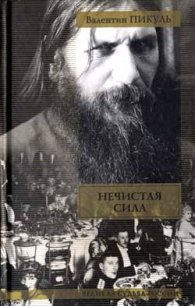Из тупика. Том 2 - Пикуль Валентин (книга жизни txt) 📗
– Да вот этого… Почему перешли? Искренно ли?
Самойлов вобрал большую голову в толстые плечи, шея его, красная, как бурак, сложилась в трехрядку.
– Переходят к большевикам, – ответил не сразу, крякнув, – только те, кто понимает, что над Россией нависла смертельная опасность. Не скрою, Павлухин, этот переход дается нелегко и совершается во имя отечества! На стороне большевиков нам не будет громких чинов, наград, подъемных, квартирных и прочих благ. Тут есть одно: желание служить родине. Но, к сожалению, понятие о родине разно укладывается в головах. Вот и генерал Звегинцев, например! Я ведь его хорошо знал прежде. Он звонит мне с Мурмана… Я жду, Павлухин! Жду опять разговора со Звегинцевым, у которого, мой дорогой, совсем иные представления о нашем отечестве.
И, помолчав, Самойлов неожиданно спросил:
– Ты охотник?
– Нет.
– Я тоже не охотник… Собирайся на охоту, Павлухин!
Зарядили два дробовика. Конечно же, никого не убили. Но честно ползали по раскисшим снегам, среди болот и кочек. От станции Исакогорка пешком прошли лесами до Никольского монастыря, где уже виднелось за Яграми море и где набрали лукошко клюквы – ядреной, ледяной, подснежной. А когда «охота» закончилась, генерал Самойлов сказал:
– Хорошая была… рекогносцировка! Готовься, Павлухин: скоро заварится здесь фронтуха… Ай-ай, какая гиблая будет фронтуха! Ни дорог, ни связи – просто караул кричи. Только одна магистраль, только течение Двины: две нитки, протянутые внутрь России. И никто не знает, когда все это начнется… Русскому солдату, Павлухин, пожалуй, впервые предстоит воевать в таких условиях. Кампания восемьсот девятого года в счет не берется, ибо там условия были все-таки иными…
Над Северной флотилией начальствовал в Архангельске «красный адмирал» Виккорст: поджарый и легкий на ногу старец, славный мордобоец в прошлом, когда еще командовал на Балтике бригадою линейных кораблей. Виккорст был выхолен в адмиральских салонах дредноутов: чтобы ему свежие булочки к утреннему чаю, чтобы вестовой матрос побрил его к подъему флага, чтобы пели торжественные фанфары, когда он отвалит от борта на катере.
Теперь всего этого не было. «Красному адмиралу» дали комнатенку в Соломбале, он занимал очередь в парикмахерской, чтобы побриться хоть раз в неделю, завтрак и обед проходили у него в общей столовой полуэкипажа, и только ужин Виккорст позволял себе в ресторане «У Лаваля». И не линкоры выстраивались теперь в кильватер по одному лишь движению бровей адмирала Виккорста – нет, собирались на митинги галдящие и растерзанные команды ледоколов, буксиров, посыльных судов и тральщиков. Впрочем, в дела митингов Виккорст разумно не вмешивался. Ему приносили бумагу и говорили:
– Завтра на Якорной и Соломбале митинг.
– Пожалуйста. – И адмирал подписывал: быть по сему…
Один из таких митингов остался памятен Павлухину на всю жизнь… Митинг, организованный Целедфлотом, проходил, как всегда, на площади перед полуэкипажем Соломбалы, – здесь тянуло ветром морских просторов, вихрились ленты матросских бескозырок, а из-за стен экипажа, что покоятся в старинной кирпичной кладке, волнующе вырастали мачты кораблей и тревожно вспыхивали огни сигнальных клотиков…
Тема митинга была провокационной, ее подпихнули в Целедфлот агенты Антанты: «Какой ориентации держаться? Германской, с большевиками заодно? Или… идти заодно с союзниками?»
Павлухин так и начал свою речь.
– Это провокация! – сказал он. – Какая паскуда посмела нам, советским морякам, предлагать на обсуждение эту темочку? Неужели мы, моряки флотилии Северного Ледовитого океана, должны выбирать себе батьку-кормильца между Вильгельмом Вторым и Георгом Пятым? У нас есть одно сейчас знамя – это Ленин! И пока нам хватит, братишки… Кончай вихляться!
Ему хлопали. Но Павлухин по собственному опыту знал, что аплодисментам в 1918 году верить нельзя. Этот проклятый шурум-бурум в задуренных башках, эта сумятица бестолковых мнений, памятная гальванеру еще по митингам на «Чесме», – все это сказывалось сейчас и здесь, в Архангельске: кренило митинг, шатало и болтало, как в качку. Договорились братишечки до абсурда: послать приветствие германскому послу в Москве – барону Мирбаху. И снова – хлопали! Конечно, хлопали! Люди посознательнее да поумнее просто уходили с митинга, как уходят трезвые из пьяной компании. Радист с бригады тральщиков большевик Иванов тоже тянул Павлухина прочь.
– Пойдем! – плевался. – Разве ж это люди собрались?..
Но тут на ящик из-под чая, заменявший трибуну, вскочил один матрос, скомкал в кулаке бескозырку и закричал – неистово:
– Полундра, братишки! Доколе нас обманывать будут? Кой там хрен Мирбах? Пиши ему, как запорожцы султану турецкому писали. А кто мне скажет: чем большаки флотилию кормить станут? У них в России давно собак съели, каждый с себя блох ловит да с того кормится… Разве не так?
– Так, – ответили. – Так-растак, и трухай дальше!
Павлухин впился взглядом в лицо говорившего матроса. Что-то очень знакомое было в его разухабистости. Головой и локтями, срывая с бушлатов орленые пуговицы, Павлухин продирался ближе…
– Мурманск-то… в порядочке? – говорил матрос, дергаясь, а ящик под ним: скрип-скрип, скрип-скрип. – Было три дня постных в неделю. Пришли союзники – жри не хочу. А сколько голодных бунтов потрясли губернию? Сколько восстаний в Вологде было? Нет, нам глаза не замажешь… Что несет большевизм народу, кроме ярма бесправия и голода?
Наступила тишина, и только скрипел ящик под оратором.
– Долой Мирбаха! – выкрикнул матрос злобно. – Убить его, как собаку поганую! Долой и тайных его агентов и послушников – большевиков! Мы, моряки Ледовитой флотилии, не признаем власти предательского Совнаркома…
Этого оратора отодвинул в сторону поручик Дрейер, и матрос сразу затерся в толпе, словно его и не было. И тогда заговорил Дрейер, и никто не прерывал штурмана, ибо ему верили.
– У российского пролетариата вообще, у военморов севера в частности, ориентация одна – это социальная революция и героическая борьба против всех империалистов, какую бы форму они ни носили. И никакого союза у рабочих, крестьян, солдат и матросов Советской России не может быть, – отчеканил Дрейер, – ни с императором Вильгельмом Вторым, ни с королем Георгом Пятым… Кто посмеет сомневаться в этом – тот предатель! Я больше ничего не могу добавить. Но каждый, кто осмелится выступить против, тот может сразу, здесь же, снять форму русского военмора!
После митинга Павлухин еще долго «тралил» в толпе, выискивая того говоруна, очень знакомого. И когда разредило матросню, спешившую по кораблям и камбузам экипажа, тогда он запеленговал провокатора – по походке, по клешам, по тому, как сплевывал тот, лихо цыкая… Павлухин нагнал его на речном трамвае, который неторопко курсировал по Кузнечихе – между Соломбалой и городом. Рассыпалась братва от набережной по пивным шалманам да по бабам-марухам.
Сунув руки в карманы бушлата, Павлухин быстро нагонял…
Нагнал!
– Стой, приятель… – сказал, забегая вперед.
Матрос повернулся, и Павлухин сразу узнал его. Лицо приятное и открытое, а серые глаза смотрят пристально, и зрачки слегка рыжеватые.
– Меня ищешь? – спросил он Павлухина, не волнуясь.
– Эге… тебя, суку! Не ты ли еще в Мурманске меня подначивал, чтобы мы, аскольдовские, адмирала Ветлинского доской прикрыли? Теперь здесь подначиваешь?..
– Так что? – спросил тот и огляделся по сторонам – пусто.
Павлухин вытянул руку, в жестких пальцах аскольдовца винтом закрутилась тельняшка на груди незнакомца.
– Ты кто такой? – спросил его Павлухин.
– Разве не видишь? Свой парень я… в доску!
Павлухин для начала треснул его в глаз.
Но страшная боль тут же обрушила аскольдовца на мостки. Рухнул как подкошенный. Затылком – в доски – хрясь! А когда очнулся – никого. Встал. Схватился за изгородь палисада. Плыла перед ним Двина, рушились дома, ходуном ходили заборы, падали деревья, все цвело в россыпях радуги… Вот это был удар!