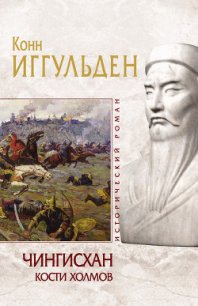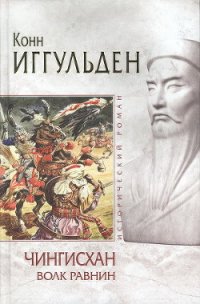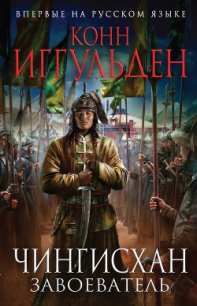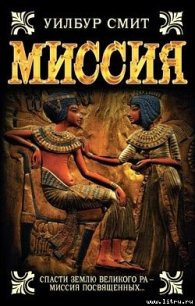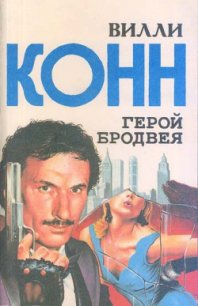Империя серебра - Иггульден Конн (полные книги .TXT) 📗
Хотя как сказать – так, да не так. Недоделка в планировке породила на юге города сеть узких проулков, и там уже вскоре осел и стал множиться лихой люд – разбойники, бродяги и воры. Но все это лишь до тех пор, пока слух об этом не дошел до Угэдэя. Он тут же велел снести там восемьсот домов, а всю эту часть города перепланировать и отстроить заново. Что до массовых казней лиходеев, то их отслеживала его личная стража.
Перед Угэдэем вся улица умолкала. При виде человека, держащего в единой горсти их жизни, смерти и золото, мастеровые вместе с хозяевами все как один падали ниц. Чуткими ноздрями Угэдэй глубоко втянул воздух, наслаждаясь вкусом пыли на языке. Ощущение было такое, будто тем самым вдыхаешь само творение. Впереди уже проглядывали башни дворца, коронованного куполом с облицовкой из листового золота тоньше, чем бумага у его писцов. Своим жарким горением купол словно пленил и удерживал в городе солнце. Душа радовалась при виде этого.
Впереди улица, снабженная каменными гладко отшлифованными водостоками, шла на расширение. Эта ее часть с месяц назад была завершена, а потому шумливые толпы работного люда остались позади. Проезжая неспешной рысцой, Угэдэй не мог не поглядеть на внешние стены города, что приводили в недоумение и умудренных архитекторов из Цзинь, и простых работяг. Даже с невысокой точки седла взгляд временами ухватывал зелень наружных равнин. Да, стены невысоки, это известно. Но ведь даже мощные стены не уберегли от осады Енкин. Стены же чингизида – это воины, сыновья степных племен, что поставили на колени цзиньского императора и разрушили до основания города хорезмшаха.
Угэдэй уже любил свое творение – от необъятной площади для воинских упражнений, что по центру, до красных черепичных крыш и каменных водостоков, а также храмов всех вер, рынков и тысяч, тысяч домов – пока еще в основном пустых и лишь ждущих своего часа, чтобы наполниться жизнью. На каждом углу ветер равнин упруго трепал синие полотнища – дань Великому небу и благосклонно взирающему оттуда небожителю-отцу. На юге зеленели равнины, за которыми вдали млели розоватые громады гор. А здесь воздух был пылен и тепел, чем радовал сердце Угэдэя, любовно озирающего свой Каракорум.
Город постепенно облекался мягким сине-фиолетовым вечерним светом, когда Угэдэй, отдав поводья кравчему, взошел по ступеням дворца. Прежде чем зайти внутрь, он еще раз обернулся на город, все еще ждущий своего рождения. Чувствовался запах свежевырытой земли, а поверх него в вечернем воздухе плыл дух съестного: это готовили себе трапезу мастеровые. Вообще-то загонов для скота под стенами при строительстве не предусматривалось, не должно было слышаться и квохтанья-гоготанья домашней птицы, которой здесь приторговывали на углах. Скажем, рынок шерсти у западных ворот – это к месту. Хотя нельзя ожидать, чтобы торговля замерла только из-за того, что город еще не достроен. Не зря же Угэдэй замыслил его на перекрестье древних торговых путей, которые и должны были помочь его городу ожить, а затем и зажить. Вот жизнь и начала непроизвольно в него вливаться – даже сейчас, пока еще целые улицы и кварталы представляли собой лишь нагромождение бревен, черепицы и камня.
Отведя глаза от полоски света, еще теплящейся на месте ушедшего солнца, чингизид улыбнулся кострам на окружающих город равнинах. Там Угэдэя ждут его люди. Тумены по его указанию сейчас кормят сочной бараниной – такой, что жир каплет на летнюю траву. Это напомнило Угэдэю о собственном голоде, и он облизнул губы, проходя в каменные ворота, не уступающие величием ни одним в цзиньских городах.
Пройдя в ворота, он приостановился в гулкой зале, любуясь на свою причуду: дерево литого серебра, грациозно устремленное под самый купол, сквозной свод которого напоминал дымник юрты пастуха. Без малого год ушел у серебряных дел мастеров из Самарканда, чтобы отлить и отполировать дерево, но оно того стоило. Теперь любой вошедший во дворец ахнул бы от богатства, олицетворяемого этим творением. Кто-то узрел бы в нем символ монгольских племен, ставших ныне единым народом. Ну а наделенный истинной мудростью, безусловно, пришел бы к выводу, что монголы настолько ни во что не ставят драгоценные металлы, что используют их как простые чушки для отливок.
Угэдэй задумчиво провел ладонью по стволу дерева, ощущая благородную прохладу. Торчащие в стороны ветви призваны были изображать жизнь и светились таинственной белизной, как, бывает, светятся березы в залитом луной лесу. Кивнув каким-то своим мыслям, чингизид сладко потянулся, а в это время рабы и слуги зажигали вокруг светильники, от которых сумрак снаружи сделался как будто гуще, – наверное, из-за длинных черных теней, пролегших из углов.
Послышались торопливые шаги, и в залу вошел Барас-агур, старший слуга, глазами ища своего господина. При виде кипы бумаг у слуги под мышкой, а также озабоченного лица, Угэдэй невольно поморщился.
– Позже, Барас, – досадливо отмахнулся он. – Когда поем. День был долгим.
– Как скажете, хозяин. Но у вас посетитель: ваш дядя. Мне ему сказать, чтобы ждал, пока вы сами не соблаговолите позвать его?
Угэдэй ответил не сразу: отстегивал пояс с саблей. Все трое дядьев прибыли на каракорумскую равнину по его приказанию, образовав со своими туменами три обширных стана. Заходить в город он им всем запретил. Интересно, кто же ослушался? Быть может, Хасар, по разумению которого все указы и законы существуют для кого угодно, только не для него?
– Который из них? – спокойно осведомился Угэдэй.
– Суту [8] Темугэ, хозяин. Я послал к нему слуг, но дожидается он уже долго.
Барас-агур пальцем прочертил движение солнца в небе, и Угэдэй раздраженно поджал губы. В тонкостях гостеприимства брат его отца разбирался как никто другой. Уже своим прибытием в тот момент, когда Угэдэй не мог его здесь встретить, он невольно заставил его, как племянника, чувствовать себя перед ним обязанным. И, похоже, неспроста. Чтобы добиться своего, такой, как Темугэ, тонко использует малейший повод. Хотя приказ был всем – и темникам, и нойонам [9] – оставаться на равнинах. С сумрачным лицом Угэдэй последовал за старшим слугой в первый (и самый роскошный) покой для аудиенций.
– Распорядись сразу же подать мне вина, Барас. И еды – что-нибудь простое, то же, что едят нынче воины на равнине.
– Будет исполнено, хозяин, – привычно склонил голову слуга, думая между тем о предстоящей встрече.
Звуки шагов отзывались гулким и призрачным эхом в молчаливой анфиладе залов. На росписи стен и потолков, доставляющие ему обычно столько удовольствия, чингизид даже не глядел. А между тем они с Барас-агуром проходили мимо творений лучших художников исламского мира. Лишь приблизившись к покоям, Угэдэй поднял глаза на буйство красок и улыбнулся образу Чингисхана, ведущего войско в сражение у хребта Ехулин [10]. Помнится, за год работы художник запросил целое состояние, а Угэдэй, увидев результат, удвоил ему награду. Отец по-прежнему жил на этих стенах, как жил и в памяти своего сына. В известных Угэдэю племенах искусство живописи не знали совершенно, поэтому приходилось восхищенно замирать перед изображениями, созданными иноземцами. Впрочем, сейчас не до живописи, его дожидается Темугэ, и Угэдэй, прежде чем войти в покой, лишь коротко кивнул отцову образу.
С братом отца годы обошлись довольно безжалостно. В свое время Темугэ был тучен, как откормленный телец, а затем резко похудел, от чего шея пошла дряблыми складками, от чего он выглядел гораздо старше своих лет. На дядю, чинно поднявшегося для приветствия с обитого шелком стула, Угэдэй поглядел холодно, лишь через силу проявляя любезность к родственнику, прервавшему его уединение. Но что делать, от судьбы не уйдешь. Народ с нетерпением ждет, и Темугэ выпало всего-навсего первому нарушить покой чингизида.
8
Суту – наделенный почтением.
9
Нойон – светский феодал в Монголии.
10
В этой битве (1211) монгольское войско практически уничтожило кадровую армию империи Цзинь.