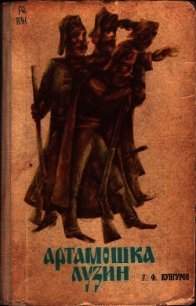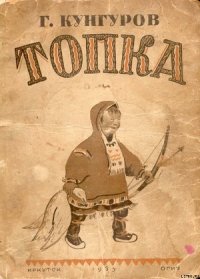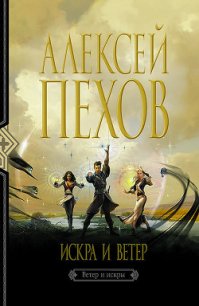Артамошка Лузин - Кунгуров Гавриил Филиппович (библиотека книг бесплатно без регистрации txt) 📗
— Земля — наша мать, человек без нее — дитя глупое… Живи, брат, в тихости…
Опустил голову Филимон, задумался, потом гордо выпрямился, глаза его засверкали:
— В тихости, говоришь, жить, в лесах хорониться зайцами? Неладно это, не по моему нраву. Рвется сердце на волю-волюшку!
— Уйми сердце, брат, не терзай… — Никанор опять наклонился к уху Филимона: — Могу поведать тебе тайну. Но смотри, браток, смотри: говорю только тебе, иных страшенно боюсь.
— Говори, брата родного не страшись!
— Мне один писец-пропойца тайны человеческие рассказывал. Велики те тайны, и не нашему уму-разуму те тайны понять.
— Говори!
— Читал тот писец-пропойца черную книгу, а писал ту черную книгу беглый человек ума превеликого и писал тайно, крадучись. Земля-то наша матушка, по той черной книге, на китах не стоит…
— Не стоит?..
— Не стоит, а кругла-де она, велика и находится в вечном кружении, плавая в небесах, как рыба преогромная в море-океане плавает и не тонет…
— Диковинно мне это, брат, но опять же умом своим я разумею так: от этого земного кружения, видимо, и на земле все скружилось и перепуталось. И одним богатство валится, как из преогромной бочки, другие же в трудах маются и, животы поджав, лохмотьями землю метут…
— По той черной книге, Земли кружение вечно, и удержать его не можно.
— А бог?
— По той черной книге, о боге слов нет, и место ему не найдено.
— Да ты в уме?
Оба задумались.
— Смотри, Никанор, — свирепо сдвинул брови Филимон, — царя сквернишь — то можно, бояр-мучителей да воевод с палачами ругаешь — то можно, то мне по душе, а вот бога не тронь!
Никанор хорошо знал нрав своего брата, испугался:
— Бога… не шевелю, да и как его пошевелишь, ведь он бог! От злых людей надобно хорониться, а богу воздавать должное, жить смиренно, праведно…
Братья покосились на маленькую иконку, что висела в углу, засиженном сплошь мухами, и размашисто перекрестились.
За дверями послышался шум. Братья оглянулись. Маланья, открыв дверь, тащила за руку Артамошку. Мальчишка пятился, не хотел идти. Вихрастая голова его была взлохмачена, лицо в крови. Большие отцовские сапоги и длинная, не по росту, казацкая кацавейка густо вымазаны в грязи. Артамошка упирался, но мать, крепко вцепившись, тащила его через порог.
Филимон гаркнул на всю избу:
— Обмой бродягу, я его поучать стану!
Мать смыла с лица Артамошки грязь. Остатками гусиного сала смазала распухший нос, толкнула к отцу.
— Кто? — спросил отец.
— Селивановы ребятишки.
— Оба?
— Оба!
— За что?
Мальчик молчал.
— Говори! — не унимался отец, зная, что сын что-то скрывает.
Артамошка раскраснелся и зашлепал вспухшими губами:
— Селивановы Гришка да Петрован проходу не дают, орут принародно: «Твоему отцу зубы вышибли. Теперь ты, Артамошка, не Лузинов сын, а Свистунов». А меньшой, Гришка, на одной ноге скакаючи, лопочет:
Артамошка не договорил, заплакал.
— Сопляк! — стукнул Филимон кулаком по столу и так топнул ногой, что полетел с полки горшок и рассыпался мелкими черепками. — Давно селивановские на рожон лезут! — крикнул он и схватился за топор.
Никанор пытался удержать его:
— Не казни сердце, не горячи кровь! Селивановы — купцы, хоть и мелки, но на виду у самого воеводы, тягаться с ними нам не в силах… Засекут, ей-бо, на площади засекут воеводские палачи!
Маланья вцепилась в Филимона — не пускала из избы.
Филимон бросил топор, потряс кулаками в воздухе и бессильно опустился на землю. Артамошка шмыгнул на печку и притих. Потрогав распухший нос, прошептал:
— Гришку на кулаки вызову, с Петрованом силой померяюсь! В одиночку-то они трусоваты.
На печи он согрелся и сладко задремал. Сквозь полусон услыхал стук. Выбежав из избы, Артамошка увидел отца за работой. У потухшего горна, на обожженном бревне, в ряд лежали свежеотточенные ножи. Артамошка сосчитал девять штук. Отец тесал топором, заготовлял к ним березовые рукоятки. Не утерпел Артамошка, схватил один ножик. Остер, лезвие как жар горит!
— Не тронь! — прикрикнул Филимон. — Я тебе, озорник!
Артамошка заметил, что у отца густые брови сошлись до самой переносицы. «Зол отец… Лют и зол, — подумал Артамошка. — Быть беде». Он положил ножик и ушел от отца обиженный. Потом опять забрался на печь, даже ужинать не стал.
Он слышал, как отец, вернувшись в избу, говорил:
— Побью!.. Погромлю!..
— Не надо, Филимон, — упрашивала, всхлипывая, мать. — Воеводские наушники прознали про твои угрозы, не сносить головы… Бежать тебе надо, спасаться.
— А ты?
— Что я! — вздохнула мать. — Мне одна судьба — маяться, обиды сносить.
— Долго ли сносить обиды воеводских мучителей! — не унимался отец.
«Драка! — обрадовался Артамошка. — Селивановых, наверно, отец лупить будет. Вот потеха!..»
— Сожгу! — грозился отец.
— Побойся бога, не надо! — уговаривала мать.
Певчая пташка
Под утро всполошился городок. Тревожно бил церковный колокол. Заревом полыхало небо. Горела изба возле воеводского дома. Артамошка бросился к оконцу, но мать загнала его обратно на печь. Вскоре заскрипела дверь, послышался шепот:
— Прощайся, Филимон, бежим!
Мать плакала. Отец склонился к Палашке. Девочка вцепилась ему в бороду и спросонья смеялась.
— Артамошка, прощай! — сказал отец.
— Куда, тятька?
— В леса густые, где ребятушки удалые.
— Возьми меня!
— Мал.
Попрощался Филимон с Маланьей, вскинул котомку на спину, сунул топор за пояс. И отец, и мать, и вошедшие в избу мужики сели на лавки, посидели с минуту, встали, сорвали с голов шапки, низко поклонились в угол, где висела икона, и быстро вышли из избы.

Артамошка приметил: у каждого мужика из-за пояса виднелась рукоятка ножа отцовской работы.
Больше не видел Артамошка отца. Он сперва даже обрадовался: «Теперь я как большой, как мужик настоящий — что желаю, то и делаю».
Но скоро настала горькая жизнь. Мать с утра уходила на работу и возвращалась поздно вечером, а Артамошка должен был сидеть в избе и нянчить Палашку. Никуда нельзя сбегать Артамошке — ни на реку, ни в лес, ни на площадь. Лишь по воскресным дням усталая мать разрешала:
— Беги, Артамошка, на улицу, беги, сынок, а то ты у меня так и засохнешь в избе.
Тогда срывался Артамошка вихрем и до вечера не возвращался.
Одно счастье у Артамошки — дядька Никанор.
«Теперь ходит дядька не к отцу, а ко мне», — думал он и очень этим гордился. Дядька Никанор казался Артамошке умнее всех на свете: был он хорошим рассказчиком и замечательным пташечником.
Рассказывает дяденька про житье птичье и все на людей переносит.
«Птица, — говорит, — умнее людей, и сердце у птицы добрее человеческого», — а сам вздыхает.
Тогда и Артамошке становится грустно, он тоже тяжело вздыхает, и кажется ему, что нет ничего на свете, чего бы не знал дядька Никанор.
Однажды пришел Никанор с подарком:
— Бери, Артамошка, клеста. Птица — она тварь нежная, сердцем ласковая. Бери, корми ее, оберегай…
Артамошка протянул дрожащие от радости руки, а взять подарок не решается.
— Бери, бери! Клест не простой, — пояснил дядька, — певчий, голосистый. Редкостный клест! Лисицей черно-бурой из-за него попустился. Во какой клест!

— Чудно мне, дядька, как это из-за птицы ты лисицу опустил? загорелся любопытством Артамошка.
Никанор начал рассказывать:
— Чуть-чуть забелел восток, туман уплыл в долины, роса пала на деревья. В это самое время пташки, особливо клесты, и вылетают… Расставил я сети и не дышу. Вдруг, смотрю, вспорхнула стая пташек. Вижу, среди них клест, да какой клест! — с пятнышком под грудкой: значит, певчий. Покрутился клест надо мной, чирикнул сладким голоском чилик-чирик-пик! — и сел недалеко на ветку. Сижу. Вспорхнула стая птиц, клест тоже. Смотрю, крадется черно-бурая лисица за клестом. Глаза зеленые горят, пасть острыми зубками, как иголками белыми, усыпана, а шубка черная блестит, переливается серебром и золотом. «Хороша! — думаю. — Эх, хороша! Крадется ловко. Сцапает… сцапает, — думаю, — проклятая, сцапает клеста! А если ее бить — клест улетит. Вот задача!» Тут я решил променять дорогую лисицу на клеста. Приподнялся слегка. Почуяла, подлая, человека — да бежать. Клест взмахнул крылышками — да к сетке. Тут я его и накрыл.