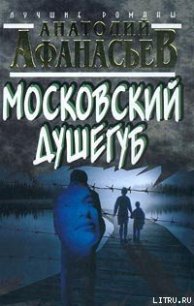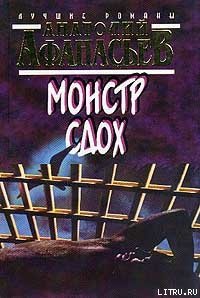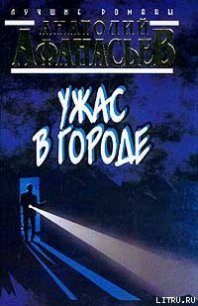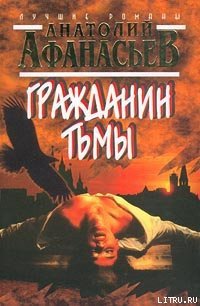...И помни обо мне(Повесть об Иване Сухинове ) - Афанасьев Анатолий Владимирович
Бестужев не вызывал у него особых симпатий. Мальчишка, не нюхавший пороха, возомнивший себя Робеспьером, Маратом или уж бог весть кем. Сухинов недостаточно знал историю, чтобы подобрать точное сравнение. К Муравьеву он испытывал гораздо большее влечение. Ему нравились вечная сосредоточенность подполковника и его печальное лицо. В сущности, это Сергей Иванович открыл перед ним мир, о котором он прежде и представления не имел. Долгие, задушевные беседы с ним обо всем на свете — о несправедливом устройстве общества, о бунте Семеновского полка, о смысле человеческого бытия — смутили, перевернули душу поручика, и все же сейчас, как бывало и прежде, Сухинов с грустью прикидывал дистанцию между собой, вынужденным совсем недавно доказывать свое дворянство, дабы получить офицерский чин, и этим спокойным, добросердечным аристократом, обласканным судьбой с самого детства. Он получил образование за границей, не обойден высочайшими милостями и наградами. «И вот он готов, не задумываясь, пожертвовать своим положением и своим будущим, да и саму жизнь поставить на карту ради общего блага, — в который уже раз недоумевал Сухинов. — Но можно ли верить в его искренность? Не окажется ли вся затея с тайным обществом и все эти красивые планы всего лишь ширмой для каких-то иных, неведомых целей? А ведь, расплачиваться придется им, ему и его друзьям славянам. Их головы полетят в первую очередь».
Ужаленный этой мыслью, Сухинов повернулся к Бестужеву и гневно сказал:
— Хорошо, хорошо, послушай теперь и ты меня. Если он (кивок в сторону Муравьева) когда-нибудь вздумает располагать мной и моими товарищами, удалять нас от тех, с кем мы кровно связаны, и сближать с теми, кого мы и знать не хотим, то клянусь всеми святыми — мы этого не потерпим!
Бестужев отшатнулся и с изумлением взглянул на подполковника, словно призывая того в свидетели оскорбления. Сухинов добавил:
— Мы сами найдем дорогу в Петербург и Москву. Нам такие путеводители, как ты и… не нужны!
Он был подвержен приступам раздражения, которые настигали его внезапно, как шквал. В такие мгновения он сам себе бывал страшен и старался как можно быстрее уединиться, чтобы не натворить бед. Потом ему бывало невыносимо стыдно за самого себя, до того стыдно, что, случалось, он плакал слезами тоски и бессилия. Но об этом не подозревал ни один человек на свете. Внутренний жар, которому он не знал названия, испепелял его.
— Как же так, — бормотал Бестужев, — как же так можно говорить, как с врагами, клянусь честью!
«В этих молодых офицерах-славянах так много еще ребячливости, — думал Сергей Муравьев, наблюдая за вспышкой Сухинова. — Они любят фантазировать, как и мой милый Михаил, и пылкое воображение придает их фантазиям черты реальности. Каковы-то они будут в деле? И можно ли им полностью доверять? Представляют ли они себе отчетливо всю серьезность и гибельность наших замыслов?.. А вот Сухинов хорош. Пожалуй, он серьезнее многих и характер имеет твердый. Не беда, что не слишком образован и не умеет при случае щегольнуть пышной фразой. Такие, как он, за истину, за справедливость, если она войдет в их сердца, идут до конца и умирают не дрогнув».
Муравьев подошел к нему и заговорил, дружески положив ему руку на плечо. Сухинов руки не сбросил, но слушал недоверчиво, по-гусарски покручивая ус. В общем-то сцена была нелепая и смешная, он это понимал. Но смешно ему не было.
— Я никогда не имел намерения что-либо скрывать от таких достойных людей, как вы и ваши товарищи, — мягко сказал Муравьев. — Уверяю, я глубоко ценю вашу любовь к отечеству, все ваши благородные чувства.
— Надо дело делать, а мы пустяками занимаемся, — буркнул Сухинов, на которого глубокий голос Муравьева подействовал самым странным образом. Ему захотелось попросить прощения у этого человека.
— Будет и дело. Скоро будет, — уверил его подполковник. Расставались они настороженно, хотя внешне и примиренные. На прощание Сергей Иванович пожал руку Сухинова неожиданно крепким и властным пожатием. У него была рука воина и облик мыслителя. В сенях Сухинова догнал Бестужев-Рюмин. Вышел с ним на улицу.
— Ну? Что? — грубовато спросил Сухинов. Глаза Бестужева сверкали азартом, оттеняя бледность кожи.
— Я разделяю, — заговорил он негромко и страстно. — Все ваши взгляды разделяю. Поверьте, мне самому надоела эта медлительность, эти бесконечные планы, вечно остающиеся неосуществленными. От них на душе осадок, как от яда. Но ведь теперь недолго, я знаю. И Сергей Иванович так считает. О, это необыкновенный человек, вы еще убедитесь. И солдаты его любят. Они пойдут за ним слепо. Их не придется уговаривать.
Сухинов рассеянно оглядывался. Лесок вдали четко обрисовывался лучами сентябрьского солнца. Какой-то мужик в рваной рубахе сидел на обочине и внимательно разглядывал кусок веревки. То ли пьяный, то ли бродяга.
— Но вот ведь, если дойдет до главного, найдутся у вас люди? Если придется положить жизнь?
— Вы о чем? — спросил Сухинов. Подпоручик впился в него восторженным и ликующим взглядом.
— А вы не догадываетесь?
— Я не гадалка.
— Если придется посягнуть, — почти шепотом произнес Бестужев. — Если обстоятельства сложатся так, что придется посягнуть на самого монарха, найдутся у вас люди?
Сухинов даже не поморщился.
— У нас на все люди найдутся, — сообщил он наставительно.
Он не стал дожидаться Горбачевского, хотя ему и интересно было бы узнать, о чем они беседовали с Муравьевым наедине. Проезжая мимо мужика на обочине, Сухинов его окликнул:
— Что, удавиться хочешь? — Мужик поднял голову, и Сухинов увидел, что лицо у него синее и опухшее, как у мертвеца. Замешкавшись, Сухинов пошарил в кармане и швырнул мужику гривенник.
Ближе к вечеру Сухинов, никому не сказавшись, отправился на любовное свидание на дальний хутор. Он ехал шагом, не спешил, жалел лошадь. Лошаденка у него была плохонькая, бедная и оседлана была худо. Он с сердечной истомой вспоминал, какой под ним был конь в тот роковой день десятого мая в тринадцатом году под Рейхенбахом. В сражении под Бауценом Наполеон мощным напором раздавил передние части русских. Армия отступала. Армии необходим был простор и время для маневра. Лубенский гусарский полк, в котором Сухинов был рядовым, ринулся в жесточайшую контратаку. Какой был конь под ним, о боже! — чудо конь. Он его спас в том бою, вынес из пекла схватки. Сухинов, с рассеченной саблей правой рукой, одичав от боли и ярости, перехватил клинок в левую руку и снова погнал коня в самую гущу. Именно с того дня он стал осваивать страшный и коварный секущий удар слева, с мгновенным перебросом сабли из руки в руку. Гусары начали с уважением поглядывать на молодого удальца. Неповторимые, жгучие то были мгновения, когда он сливался с конем воедино, а сабля становилась живым и грозным продолжением его руки. Вихрь схватки, прыжок в безбрежность, юность духа и тела! Священная война народа! Первые услышанные им разговоры о свободе, равенстве, республике. Он многого тогда не понимал, но чувствовал, всем естеством осознал — война идет не за Францию, не за Польшу, война идет за Россию, за чудесный, счастливый завтрашний день. Неведомым прежде блаженством насыщался его неопытный разум. Как дьявол сражался Ваня Сухинов, юный гусар. Под Лейпцигом левую руку ему раздробили, и плечо, и голову задели. Он превозмогал боль со стоицизмом спартанца. Он остался в строю и насмешливо скалил зубы, когда ему перевязывали раны. Он не искал наград, но слава его манила. Лихая солдатская слава, открывающаяся в улыбках друзей и в радостных окликах совсем незнакомых людей. Годы прошли, истекли непонятно куда, и конь тот, наверное, пал. А он, заговорщик Сухинов, плетется шагом на свидание к красивой девушке Марине, но ему не очень хочется разговаривать с Мариной, потому что он смутно догадывается, что сулит ему будущее. «Я мог прожить легче и спокойнее, — без сожаления думал Сухинов. — Мог служить по чиновничьей части, как братья, обзавестись семьей и блаженно умереть, окруженный родными людьми. Да вот не по мне такая доля. Не по моему нутру. Наверное, сдох бы я прежде времени от лютой скуки».