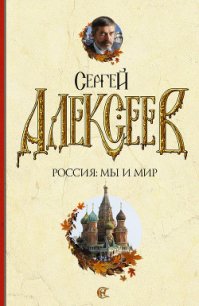Может собственных платонов... Юность Ломоносова - Андреев-Кривич Сергей Алексеевич (читать книги без .txt) 📗
Новоприбывшие взяли да и ударили челобитную на государево имя, прося поместить их, куда его императорское величество заблагорассудит, сообщая пока, что они «безместно и бедно скитаться принуждены».
Пока дело дошло до Петра, немало воды утекло, но, получив челобитную сорбоннских выучеников, Петр повелел синоду определить их к делу.
Больше всех преуспел Горлецкий. Преподнеся Екатерине I составленную им грамматику французского языка, он через некоторое время был определен адъюнкт-профессором в Академию наук. Каргопольский же и Постников делали по поручению синода переводы, и только осенью 1725 года они получили постоянные места преподавателей Московской славяно-греко-латинской академии. Постников удержался на своем месте и впоследствии дошел даже до должности директора Московской синодальной типографии, Каргопольский же в служебной деятельности не преуспел. В следующем году он был уволен из преподавателей академии, оказавшись на «иждивении» Московской синодальной конторы. И наконец строптивый и неуживчивый «парижский студент» оказался в Холмогорах — подальше от Москвы и Петербурга… Но и здесь он недолго продержался. Через год его отрешили от должности.
— Значит, заморскими науками нас просвещать, — продолжал юлить дьякон. — Как славно! За морем науки, чай, глубоки?
— Хоть куда.
— У нас таких и не найти?
— Покуда нету. Будут. Вот, к примеру, Михайло Ломоносов в них преуспеет. А? Каково, дьякон?
— Ежели рассудить, то что ж? Хорошо. И давно ты отправился в… Уж не обессудь, названия не упомню.
— Немалое время тому назад. Около четырнадцати уже годков.
— Как к хорошему делу пристанешь, — продолжал дьякон, — и оно к тебе добром обернется. Достатку у тебя за это время набежало от наук? Ведь четырнадцать лет! И почести, что за труды ученые полагаются, на тебя снизошли?
— А как же? Снизошли.
— Ну и слава богу. За морем долго ли обретался?
— Пять лет и еще немного.
— Хорошо за такое время все постиг. Многому научился. А как сюда явился — сразу же тебе почет и всякое богатство? Или немного повременя?
— Повременя.
— Что так? — участливо спросил дьякон.
— Мерзавцев на свете много.
Дьякон насторожился:
— Вон как. Это в Петербурге да Москве?
— Везде хватает.
Игривости в голосе у дьякона поубавилось.
— Значит, нерадостно приняла родная сторонка? А ты бы, богу помолясь и крестным знамением себя осенив, самому государю челобитную.
— Бил.
— И что же?
— Государь Петр Алексеевич что нужно приказал. Жалует царь, да не жалует псарь. Промеж государя и подданного много насело такого, что не особо о деле печется. А потом Петр Алексеевич помер.
— Помер. Да. Ну, и тебе без государя хуже?
— Ну, тут, дьякон, всякое пошло.
— Да, да, — участливо покачивал головой дьякон, — всякое. Ну, ты, стало быть, новым правлением и недоволен? Чем же быть довольным? А? Где уж теперь правда и справедливость?
Дьякон выжидающе уставился на Каргопольского.
Тут сказал Михайло:
— Отец дьякон, все ли, что Иван Иванович говорит, все ли это хорошо упоминаете? На всякий случай.
Сделав вид, что ничего не понял, дьякон ответил:
— Памятью бог не обидел.
Вдруг дьякон приблизился к Каргопольскому и с удивлением стал разглядывать его кафтан:
— Иван Иванович! Не нов, уж совсем не нов…
Он сочувственно потрогал сильно потертый кафтан Каргопольского и развел в изумлении руками.
Потом он сделал вид, что о чем-то догадался:
— Кафтанец-то который получше, бархата рытого, золотом шитый, серебром стеганный, каменьями изукрашенный, что науками себе промыслил, видно, к какому случаю бережешь. А покуда просто ходишь. Смирения ради. Нет! Не то! Еще из Москвы не все сундуки прибыли. Не весь обоз доставлен. Спешил к нам!
— Не ношу покуда дорогого кафтана, дьякон. Случая нет. Вот ежели меня у отпуска съестных припасов из Архиерейского дома на нужды школы каким начальством поставят, тогда уж по должности придется приодеться — чтобы не срамиться.
Дьякон позеленел. Ему сегодня не везло. Сначала Качерин, теперь вот это… Ведь он-то и стоял близко к отпуску съестных припасов из Архиерейского дома… И кое-что ему перепадало. И откуда этот черт знает? Дьякон даже засопел от злости.
Сдержавшись, он сказал:
— Не Михайлу ли Ломоносова ныне хочешь наставить на ученый путь, на котором сам столь преуспел? Видно, надеешься, что он по ученой дороге дойдет до знатности и богатства. Вон как ты? Хорошо бы, хорошо бы. Дай-то господи, Иван Иванович, тебе у нас подоле пожить, отроков наших в школе добру и правде наставляя. Ежели от меня что будет зависеть, то уж порадею, чтобы у нас остался доле и куда дальше, к примеру, не поехал.
Каргопольскому вся эта комедия наконец прискучила.
— Ну, дьякон, перестань юлить, надоел. За доносы-то тебе платят или ты просто из усердия? Пойдем, Михайло Ломоносов, ко мне.


Глава 18. ПОЧЕМУ ОПЛОШАЛ В ЖИЗНИ ИВАН КАРГОПОЛЬСКИЙ?

Услышав, как проскрипела на плохо смазанных петлях наружная сенная дверь, с русской печи поползла спиной вперед старушонка. Потрогав обутыми в валенки ногами верхнюю ступеньку приступки — лестницы для спуска с печи, — она, держась за служившую перилами жердь, сошла вниз. Обернувшись, наконец, лицом к вошедшим в избу, она прошаркала к ним валенками, приставила к лицу ладонь и влипла носом сначала в одного, потом в другого.
— Этот? Постоялец. Этот? Михайло Ломоносов. Что это к нам пожаловал? Отец-то, мать как — здоровы?
— Здоровы, бабушка, здоровы.
— С матерью, мачехой своей, ладишь ли?
— Поладили…
— Плохой мир лучше хорошей ссоры.
Каргопольский вопросительно смотрел на Михайлу. Тот улыбался.
— Непростой нрав-то у мачехи моей… Всякое случается.
— Ну, Михайло Ломоносов, грамотей куростровский, по ученому делу какому пожаловал к нам?
— По ученому, по ученому, — проворчал Каргопольский. — И откуда ты, бабка, все понимаешь? Видишь-то чуть.
— Видишь ежели чуть, стало быть — умом доходить.
— До многого умом-то так доходишь.
— А не грех.
— Не грех, а все утомительно. На старости лет-то.
— Э-э-эх. Сам-то не молод уже.
— Ну, вот, чем годы мои считать — еще собьешься, — взбодри-ка нам, Дмитревна, угощеньице. Попотчевать гостя.
— И то.
Старуха поставила на таганок медную сковородку, разгребла в горнушке пепел, достала из-под него горячие угли, вздула огня, разожгла подложенные под сковородку щепки и положила на нее шаньги [78]. Справившись с делом, она села на судную лавку, что стоит у печи, и стала смотреть на Каргопольского.
Каргопольский, подойдя к полке, перебирал стоявшие на ней зеленые и белые скляницы с водкой, разглядывая их на свет. Подобрав ноги, сложив губы бантиком, бабка ядовито молчала и следила глазами за постояльцем. Облюбовав одну из скляниц, Каргопольский осторожно поставил ее на стол.
— Боишься разобьешь?
— Что хорошее так сразу и не разглядишь. А тут справилась.
— Ох, — вздохнула старуха и примахнула головой. — Ведь вот, Михайло, сказываю ему, хорошему человеку: и что это ты к этому зелью проклятущему пристал?
Она кивнула на полку, где рядом выстроились скляницы.
— Что? Нешто от зелья этого польза?
— А не во всем, бабка, польза есть, не во всем. Если бы на свете одна польза жила, то куда бы вреду деваться? А ему ведь во как жить надобно.
— Вот так всегда: скажешь ему дело, а он тебя на смех.
— А что думаешь — в смехе правды, что ль, нет?
— Почему нет? Есть.
78
Шаньга — пышка.