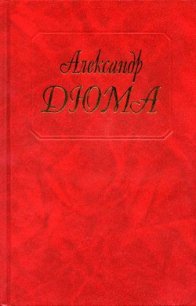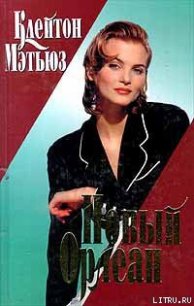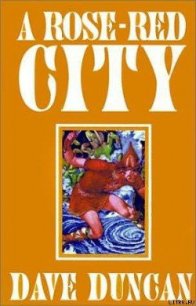Морские нищие (Роман) - Феличе Арт. (полные книги .TXT) 📗
— Почему же?
— Придете к его преподобию, поднесете ему что-нибудь в знак уважения, и его преподобие все вам объяснит как по писанному… Так это моя косынка?
— Пожалуйста, пожалуйста, рад услужить и вам и его преподобию. Обязательно навещу. Да хранит вас обоих Святая Дева!
Они расстались. Экономка засеменила бегом к водокачке, а патер Габриэль, стерев с лица пот, взвалил на плечо короб и пошел искать бывшую служанку Розу, жену цирюльника.
После долгих розысков он нашел ее на противоположном конце города, в чистой, уютной квартирке при цирюльне. Огромный выкрашенный в золотую краску таз и сверкающая на весеннем солнце бритва украшали всю улицу.
К нему вышла высокая темноволосая женщина с выражением испуга в красивых черных глазах. Когда она узнала, зачем он пришел, и увидела в руках у него письмо для хозяйки «Трех веселых челноков», она залилась слезами и побежала за мужем, молодым статным фламандцем. Оба наперебой стали расспрашивать о Микэле, а потом рассказали печальную историю обитателей кабачка.
Оказалось, со времени усыновления Иоганна Франсуаза почувствовала, что приходский священник и его экономка следят за каждым ее шагом и наговаривают на нее всякие небылицы. Тогда она решила оставить насиженное место и перебраться в какой-нибудь другой город. Франсуазе хотелось в тишине и покое вырастить посланного ей судьбой сына.
— Вот она и списалась с гарлемским музыкантом Якобом Бруммелем, — рассказывал цирюльник. — Он, пока был в Брюсселе, привязался к ее мальчугану и даже хотел учить его пению. Якоб Бруммель уговорил Франсуазу переехать в его тихий Гарлем. Ну, она подумала, подумала и начала сборы. Распродала лишние вещи, дом, все строения, скотину, оставила только две пары лошадей, и отправилась в путь с Иоганном и двумя служанками. Мы их и провожали до самого Лувена…
— Там, — всхлипнула Роза, — на постоялом дворе я в последний раз обняла хозяйку. Она поцеловала меня и сказала: «Ну, Роза, красавица… простите, ваша милость, это она меня так по доброте сердца называла… я непременно приеду крестить твоего первенца». И вот… не пришлось… А я-то…
Она не договорила. Из черных, как терн, глаз ее снова хлынули слезы.
— Ну вот!.. Ну вот! — развел руками цирюльник. — Всегда так — только вспомнит свою хозяйку.
— Ах, Роберт, — плакала уже громко Роза, — ты не знал ее так, как я! Это была настоящая святая, ваша милость!
Последнюю бездомную кошку готова была пригреть. Служанок жалела, что родная мать. Меня вот выдала замуж за хорошего человека и по любви. Сделала приданое, будто дочери. А уж в Иоганне своем души не чаяла. Весь квартал плакал, когда она уезжала. — Роза опомнилась и потерла передником глаза. — Что же это мы стоим чуть ли не на пороге?.. Рассказывай, Роберт, а я мигом накрою на стол.
Проворная, как бывало, она захлопотала по хозяйству, и стук посуды смешался с ее громкими вздохами.
Цирюльник усадил гостя в почетное кресло возле окна и продолжал:
— Уехали они, а мы вот с нею вернулись домой и стали ждать вестей, как они добрались до Гарлема. Прошло немалое время, вдруг к нам стучится однажды незнакомый человек и приносит письмо. Вот оно здесь, ваша милость, прочтите сами.
Он вынул запрятанный на дно сундука клочок бумаги, где детским почерком было написано:
«Нас всех схватили в Роттердаме, повели в тюрьму, спрашивали деньги — отняли, били очень. Спрашивали про колдовство, про дьявола, мучили. Потом выгнали меня за городскую заставу. Матушку, Берту, Эмилию увели. Я дошел до Гарлема. Где матушка, не знаю…»
Внизу была приписка рукой взрослого:
«Мальчик рассказал страшные вести. Он долго болел. Я старался узнать, что сталось с доброй Франсуазой и ее двумя служанками. Нигде ничего не знают. На постоялом дворе в Роттердаме люди молчат — боятся рот раскрыть. Не слышно ли чего у вас? Иоганн поправился и остался у меня. Все плачет. Пойдите к его светлости принцу Вильгельму — попросите его помочь. Если надо, я приеду сам. Якоб Бруммель». Патер Габриэль отложил письмо и взглянул на цирюльника:
— Что же вам удалось узнать?
— Ничего, ваша милость, как в воду канули все три женщины. Принца Оранского в ту пору не было в Брюсселе. Якоб Бруммель приезжал — туда-сюда, тоже ничего. А потом прошел слух, что матушку Франсуазу обвинили в служении дьяволу и что ее уже нет давно в живых… и обеих служанок.
Роза, вносившая шипящую на сковородке яичницу, не выдержала и громко разрыдалась.
Патер Габриэль отодвинулся от стола. Кусок не лез ему в горло.
Запретная книга
Генрих с Карлосом стали часто бывать у садовника. С каждым разом их встречали там все приветливее.
Генриха заинтересовала работа смуглолицего Родриго — майоликовая посуда, раскрашенная тончайшим замысловатым рисунком. В Валенсии, где Родриго вырос, его научили гончарному искусству по заветам старых мавританских мастеров. Генриху нравилось любовное отношение юноши к своему труду. С пылкой страстью настоящего художника Родриго садился за гончарный станок и разрисовывал посуду прозрачными красками. Генрих старался угадать, что хотел тот вложить в свой рисунок, и это ему часто удавалось. Все очертания растений и цветов, заботливо выращенных садовником-дядей, юноша наносил на золотистую, словно металлическую, глину.
Карлос относился к Родриго свысока, никогда не забывая разницы между положением инфанта и почти нищего горшечника. Его притягивала в башню дочь садовника. Девушка не сознавала своей красоты, и это делало ее совсем не похожей на кокетливых, самонадеянных испанок… Когда Карлос узнал, что ее имя Изабелла, так же, как называли в Испании его мачеху, Елизавету Валуа, он вспыхнул и сказал неожиданно печально:
— Так звали и мою невесту, но ее у меня отняли…
С того раза Изабелла перестала избегать его. Напротив, она старалась чем-нибудь утешить: то принесет ему самых свежих цветов, то предложит выпить вкусного прохладного напитка, то споет одну из своих песен. И инфант слушал ее, любовался ее большими кроткими глазами и точно успокаивался. А голос девушки проникал ему в душу.
Генрих радовался знакомству с семьей садовника. Ему казалось, что общение с простыми, честными людьми может хорошо повлиять на необузданную натуру Карлоса. В последнее время ему бывало трудно справляться с болезненными вспышками инфанта. Карлос метался, проклиная судьбу, тосковал по мачехе, мечтал о мести отцу, о своем будущем торжестве.
— Я молод, — говорил он возбужденно, — но мне уже надоела жизнь… Изо дня в день терпеть и ждать…
— Чего?
— Ждать, когда трон освободится. Когда я смогу наконец стать тем, кем рожден быть.
Генрих возмутился:
— Мечтая о власти, ты не должен забывать, что тебе придется быть королем не только в одной Испании с ее американскими и другими владениями, но и в просвещеннейшей стране Европы.
— Ах, ты вечно толкуешь о своих Нидерландах!
— Да. Нидерландцы — просвещенный народ. Они могут управляться только такими же просвещенными людьми.
Карлос оживился:
— Ну что ж, я готов. Я так много слышу от тебя о твоей стране, что, право, иногда ловлю себя на мыслях о ней. Мой дед, император, говорят, ценил и любил Нидерланды. Я готов последовать его примеру. Ведь я тоже Карлос…
Он помолчал, а потом добавил с прежней тоской:
— Если бы я был постарше, отец послал бы меня туда сейчас, как наследного принца. И я был бы уже правителем твоей родины. Своими советниками я сделал бы твоего любимого Оранского, Эгмонта, Горна и, конечно, тебя…