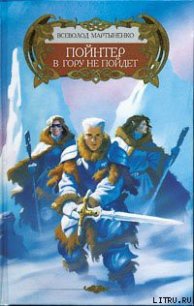Петербургские трущобы. Том 2 - Крестовский Всеволод Владимирович (лучшие книги читать онлайн бесплатно без регистрации .txt) 📗
– Но ведь мне надобно же и отдохнуть когда-нибудь, – возразила девушка.
– Для отдыха мы тебе дадим весьма достаточно времени, но вычитать я буду за нерадивость и неаккуратность. Например: тебя отпустят со двора на два часа, ты пробудешь три, – за час я сделаю вычет. Не вычистишь ты мне к утру платье и сапоги, не подметешь и не уберешь аккуратно все комнаты – опять-таки сделаю вычет. Понимаешь?
– Понимаю вполне.
– Ну, теперь насчет обязанностей, – продолжал пунктуальный Карл Иванович. – Штопать, чинить, иногда сшить что-нибудь для барыни, иногда выстирать, выгладить ей воротнички или мне манишки или что-нибудь такое, платье чистить, барыню одевать, голову чесать ей; ну, затем полы подметать, а иногда, по очереди с кухаркой, и вымыть их, ну… и прочее. Одним словом – понимаешь ты – вся домашняя работа. Кроме того – у нас бывают порядочные люди, поэтому я требую, чтобы ты была всегда опрятно и прилично одета. Вот мои условия. Согласна ты? – вопросил наконец господин Шиммельпфениг.
Маше, конечно, больше ничего и не оставалось, как только согласиться на все условия господ Шиммельпфенигов.
– Лизхен, – обратился Карл Иванович к своей супруге, – сдай ей счетом, по записке, все вещи, которые должны находиться у нее на руках, да прибавь, что за каждую утраченную, разбитую или испорченную вещь мы вычитать будем из ее жалованья.
Но Лизхен прибавила бы это сама по себе, без напоминаний своего супруга. Она сдала своей вновь определившейся горничной ваксу, сапожные щетки и метелку – для «барина», сдала блюдечки, чашки, стаканы и чайные полотенца, сдала свои юбки, манишки и платья, указала ключи от шкафов, где вся эта рухлядь хранилась, и Маша собственноручно долина была отметить в реестре – в каком количестве и какие именно вещи приняты ею.
– Ну, уж скареды иродские, прости, господи! – говорила Маше ее бывшая горничная Дуня, когда та вышла проводить ее в сени. – Знала бы – ни за что не посоветовала бы вам идти к ним.
– Да что ж, они по-своему правы: каждому свое добро дорого, – возразила Маша.
– Эх, да уж больно по-жидовски как-то выходит у них все это! – презрительно скривила Дуня свои губы и прибавила в виде утешенья: – Уж вы, Марья Петровна, поживите у них, голубушка, так только, самую малость, пока что… А я вам, авось, другое место добуду!.. Постараюсь!
– Нет, Дуня, спасибо. К чему другое? – отклонилась Маша от ее предложения. – Все равно, где ни служить. Я ведь не боюсь работы – сама же захотела ее, ну, и буду работать. Честно буду работать, так и здесь будет сносно… Проживу как-нибудь – бог не оставит! Прощай, Дуня!
И две девушки тепло простились между собою братским поцелуем и горячей слезкой, в которой у каждой из них, быть может, скрывалась своя доля подавляемой горечи и боли душевной. Что-то это за новая жизнь? Как-то все это будет, да чем-то все это кончится?..
Маша хотела работы – она ретиво принялась за нее, не смущаясь многими трудностями непривычного для нее дела, и однако все-таки дико и странно как-то показалось ей это новое положение в чужом доме, с чужими людьми, где все, положительно все было ей чужое, и это чужое с полным правом распоряжалось, по своему произволу, ее временем, ее волей, ее работой. Она должна была беспрекословно подчиняться любой прихоти и каждому капризу этих чужих, совсем посторонних ей людей, которые, так или иначе, но часто на ней самой изливали свое неудовольствие, и эти изъявления надо было принимать молча, сносить терпеливо, потому что от каприза этих людей, более или менее, зависело самое существование молодой девушки: откажи они ей сегодня от места – она сегодня же не будет знать, куда ей деться, как быть, где приютиться, что начать делать? Потому что она не знала той жизни и не приобрела еще того опыта, которым научают долгая нужда да горе с голодом и холодом. То есть, пожалуй, она и знала, что есть на свете жизнь вроде той, которую она, не ведая еще, что творит, вела одно время с молодым Шадурским, но… там у нее была любовь, для которой она все забывала, все прощала и все переносила безропотно, а для новой, подобной жизни у нее нет, да и не могло уже быть любви – натура Маши была слишком чиста и непорочна еще, и потому эта жизнь, полная горького разгула и в то же время горькой беспомощности, также пугала ее своим ужасом и развратом: пока еще она чувствовала к ней только одно отвращение и презрение.
«Нет!.. Лучше я не знаю что, лучше камни ворочать, лучше в каторгу идти, только не это!.. Только не это!» – с ужасом повторяла она самой себе, закрыв глаза рукою, словно бы защищалась от тех ужасов, какие рисовали в ее воображении смутные признаки этой безнадежной жизни.
Прежняя любовь – прежнее чувство было еще не изжито: оно, непрошенное и незванное, то и дело врывалось порою в душу девушки, отравляя все существо ее горечью самых светлых воспоминаний и тяжестью темного разочарования. Маша не могла еще совладать сама с собою, она еще не в состоянии была преодолеть в себе остатки своего чувства к молодому князю, хотя и старалась всеми силами достичь этого: она думала переделать себя, хотела заставить себя разлюбить и позабыть его – и не могла заставить.
«Пустое! Все это дурь во мне бродит, все это блажь одна, блажь и только! – твердила она себе порою. – Я должна бросить все это! Буду работать – как можно больше и усерднее работать, чтобы некогда было даже думать о прошлом, работать целые дни так, чтобы к ночи до того устать, измориться, чтобы только спать и спать. – А там – опять за работу, и опять измориться: усталость отобьет охоту думать, работа, как ни хитри, а возьмет свое!»
И Маша работала – работала так, что даже господа Шиммельпфениги не могли сказать дурного слова.
Чем больше, порою, подступала ей к сердцу горечь неугомонных воспоминаний и оскорбленной любви, тем пуще принималась она за работу. Она работала упорно, сосредоточенно, даже с каким-то тайным суровым озлоблением, и в эти минуты нарочно сама выбирала какое-нибудь дело потяжелее. Не в очередь мыла полы, чему немка-кухарка была необыкновенно рада, штопала чулки господина Шиммельпфенига, чинила юбки и воротнички госпожи Шиммельпфениг до того, что на всех пальцах заусеницы накалывала себе иголкой, печи топила, бегала по двадцати раз в день в мелочную лавку, в булочную, в колбасную, в пивную, и когда несмотря на все это у нее в течение дня оставалось еще довольно свободного времени, Маша выискивала себе новую работу.
– Сударыня, у вас нынче три сорочки и пять юбок грязных лежат – позвольте, я их выстираю, – говорила она иногда в этих случаях госпоже Шиммельпфениг, и Луиза Андреевна немедленно соглашалась, даже была рада этому из экономических видов: по крайней мере, домашними средствами обойдется дело – прачке платить не надо – Маша даром выстирает, накрахмалит и выгладит. И вскоре таковой образ действия со стороны Маши дошел до того, что госпожа Шиммельпфениг совсем почти перестала пользоваться вольнонаемной прачкой и, как бы чувствуя за собой полное и законное право, свалила почти всю стирку на одни Машины руки.
И молодая девушка исполняла все это беспрекословно, как будто оно и в самом деле должно быть так, а не иначе. Она спускалась в подвал, в темную, холодную прачечную, разводила с помощью дворников большой огонь, кипятила воду в чугунке, и в быстро нагретой, сырой, прелой атмосфере, в которой густой пар ходил клубами и туманом, принималась над большим деревянным чаном за тяжелую стирку хозяйского белья. В оконные щели холод идет, дверь кто-нибудь входя или уходя растворит, и в низкосводный, закопченный подвал так и пахнет со двора пронизающим ветром, так и обдает им все тело – что за нужда! Приналяжет Маша на свою работу, и опять станет жарко. Две-три прачки стирают тут же. Обычно желтые, заморенные лица их раскраснелись от упорной работы, растрепанные волосы выбиваются из-под головного платка и космами липнут к мокрому лбу, на котором крупными каплями уже четвертый пот проступает. У одной из них тут же грудной ребенок в платяной корзинке пищит; мать поставила его неподалеку от печи, чтобы потеплее было, потому дома у нее в квартире холод: сама на работе, стало быть, и печка понапрасну не топлена. Слышит мать жалобный, голодный писк своего ребенка и, вся мокрая, усталая, разбитая бежит от дымящегося чана к платяной корзинке и, склонившись над нею на колени, наскоро кормят грудью младенца. Другая, молоденькая, быстроглазая, в это же самое время, визгливым тоненьким голосом песню поет – поет и стирает, а досужий дворник, который только что притащил сюда и с громом свалил у печи новую вязанку обледенелых поленьев, облапливает ее сзади всею пятернею и балагурно заигрывает. Быстроглазая прачка лукаво ухмыляется – и вдруг ему прямо в рожу летит целая пригорсть мыльной воды и обдает всего брызгами. Дворник ругательски ругается, быстроглазая звонко хохочет, ребенок пищит и плачет, а Маша все стирает да моет, словно бы не видит и не слышит ничего – упорно, сосредоточенно склонилась в три погибели над своим чаном, мускулы рук ее то и дело напрягаются. И движутся эти руки непрерывно, словно два поршня или рычага в паровой машине; всю спину и поясницу ей уже давным-давно разломило; ладони и пальцы разбухли до опухоли от движения в горячей воде – к завтрашнему утру они потрескаются на морозе, как пойдет она полоскать белье на реку, к завтрашнему утру на них волдыри накипят и мозоли позаскорузнут – нужды нет! Маша стирает себе, не обращая ни на что внимания, потому ведь по своей, по вольной охоте взялась она за эту работу – никто ее, кроме собственного сердца, не нудил на эту каторгу. Пойдет она завтра на плот полоскать в холодной воде свою стирку, простоит на резком ветру часа два, простоит под дождем или снегом; потом возьмет все эти обледенелые рубахи, юбки да кофты и на чердаке развесит их сушиться на протянутых веревках. К этой всей работе Маша еще с детства пригляделась, как жила в Колтовской, у своих стариков: у них тогда во дворе, в маленьком флигелечке, тоже прачка одна квартирушку снимала и все этак-то стирала да мыла. В те поры Маша иногда, от нечего делать, приглядывалась к ее работе, а теперь нежданно-негаданно пришлось ей и к делу применить свою приглядку. Сноровки только большой у нее не было – занятие не совсем привычное – зато ретивости много.