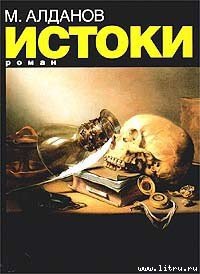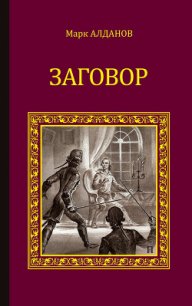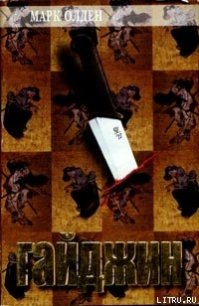Бегство - Алданов Марк Александрович (книги серии онлайн txt) 📗
Очень интересовалась кинематографом и Глафира Генриховна. Вид молодых, красивых людей, имеющих автомобили, обедающих в дорогих ресторанах, приятно ее волновал. После таких фильмов она выходила из кинематографа в настроении приподнятом и бодром, готовая к борьбе (в таком же приблизительно состоянии выходил из кинематографа Витя, повидав необыкновенные приключения необыкновенно энергичных людей, отряды вооруженных всадников, с места в карьер выносящихся из ворот гациенды). Трудная жизнь Глафиры Генриховны была подобна жизни полководца, вечно ведущего войну, от которой зависит все его будущее. Так, в сложных стратегических комбинациях, с постоянной оглядкой на противника, на обстановку, на поле сражения, проходили дни и годы Глаши. Никто ее не жалел. О ней все только и знали, что она злая и любит говорить неприятности. Глафира Генриховна и сама считала себя злой. Иногда она давала себе слово больше никому неприятностей не говорить — разве только изредка Мусе по дружбе. Но выполнить это было выше ее сил: почти все люди, которых она знала, были, по ее мнению, гораздо счастливее, чем она. Менее счастливы были, вероятно, горничные, извозчики, рабочие, но с ними себя сравнивать естественно не приходилось. От удара, нанесенного ей помолвкой Муси, Глафира Генриховна так и не могла оправиться. Муся делала блестящую партию в двадцать два года (про себя Глаша знала настоящий возраст Муси). У нее же был период полного затишья. В пору своих генеральных сражений Глафира Генриховна чувствовала себя, хоть нервнее, зато и много оживленнее. Свершились мировые события, шла великая война, создалось и пало Временное правительство, пришли к власти большевики, а Глафира Генриховна помнила одно и только об этом думала: Муся блестяще выходит замуж, а у нее никого нет. Она ненавидела Мусю тихой ненавистью и делала над собой усилия, чтоб не поссориться: Глафира Генриховна понимала, что ссора для нее гораздо невыгоднее, чем для Муси.
Номера 35 и 36 выходили недурно. Сонечке казалось, что страсть и чисто материнская нежность вполне ей удаются. Но 37-й номер, самый важный, от которого зависела вся сцена, не выходил. Сонечка добросовестно старалась себе представить, как тигрица, с дикой ненавистью, может бросаться на человека, — прыжок все же не удавался. Березин требовал вдобавок, чтоб беззвучные движения губ вполне соответствовали произносимым словам. Сонечка добросовестно исполняла и это. Однако беззвучные движения губ, соответствующие длинной надписи 37-го номера, явно вредили яростному выражению лица, да и дошептать всю фразу до зеркала было совершенно невозможно. «Нет таланта!.. Не возьмут!.. Что ж тогда?» — с ужасом и отчаяньем думала Сонечка. Участвовать в фильме это значило целый день, — да, целый день! — проводить с Сергеем Сергеевичем. — «Вдруг он в меня влюбится и сделает предложенье? Говорит же Мусенька, — она ангел, — что он в меня влюблен!.. Нет, пока еще не влюблен, я чувствую, но вдруг? За это можно полжизни отдать!..» — Сонечка честно себя проверила. — «Полжизни? Может, я семьдесят лет прожила бы, значит, до тридцати пяти лет. Шестнадцать лет осталось бы… Ну, разумеется, сейчас готова!.. Да и почему семьдесят? Вот ведь бабушке было восемьдесят два. Тогда сколько?.. И потом детские годы считать нельзя… Если с шестнадцати и до семидесяти, или до семидесяти пяти, да разделить на два, сколько выйдет?..» Сосчитать было нелегко. Однако Сонечка ясно чувствовала, что согласна. «Какая я глупая! Да сколько бы ни было, разумеется, согласна! Хоть на следующий день умереть!.. Другие тоже вчера заметили, когда он на меня там посмотрел сбоку. Но если не возьмут, что тогда? Нет, надо, чтоб взяли, я этого добьюсь!» — в припадке бодрости подумала Сонечка. Она еще раз отошла на край комнаты — для разбега все же было мало места, — перевела дыханье, изготовилась, уронила розу и стремительно бросилась на зеркало, вытянув вперед руки, искривив лицо и яростно шепча: «Это ты, злодей, тайный…»
Дверь открылась. В комнату вошла Анна Сергеевна. Сонечка сконфуженно остановилась.
— Совсем с ума сошла, мать моя, — сокрушенно сказала Анна Сергеевна.
Сонечка хотела было огрызнуться. Но вид у сестры был такой усталый, что Сонечке стало ее жаль. Она очень любила сестру, знала, что та работает целый день и имеет немало прав ворчать. У нее не было ни Сергея Сергеевича, ни кинематографа, ничего не было.
— Что? В гимназии опять что-нибудь? Неприятности? — кротко и робко спросила Сонечка.
— Трещит наша гимназия, — сказала Анна Сергеевна, села на стул и вдруг заплакала. Сонечка тоже заплакала горькими слезами.
— Ничего, ничего, скоро я начну зарабатывать… Увидишь… Вот увидишь!.. Я тебе говорю!..
— Все трещит, все! — вытирая слезы, говорила Анна Сергеевна.
XV
Аресты в городе все учащались и становились много серьезнее. В начале нового строя арестованных скоро освобождали или предавали суду Революционного Трибунала, который чаще всего приговаривал их к общественному порицанию. Но это длилось недолго. Теперь тюрьмы были переполнены, заключенные содержались в очень дурных условиях, и об их освобождении больше не было слышно.
В числе арестованных в последние дни были знакомые Семена Исидоровича. Ему самому друзья настойчиво советовали не ночевать дома и лучше всего поскорее уехать из Петербурга. Вопрос, куда ехать, теперь решался сам собою. Все стремились на Украину. То, что Украина была захвачена немцами, уже никому не казалось препятствием, — сам Артамонов решительно говорил: «Что ж, батюшка, из двух зол надо выбирать меньшее!» — эта фраза почему-то очень его успокаивала.
Украинская миссия в Петербурге выдавала паспорта неохотно, но для Семена Исидоровича, при его новых связях, дело затруднений не представляло. Ему выдали украинские бумаги немедленно, вне очереди и с особым почетом, даже как бы с торжеством. День отъезда, однако, назначен не был. Тамара Матвеевна переживала мучительную внутреннюю борьбу. Ей очень хотелось увезти мужа подальше от опасностей, грозивших ему в Петербурге; она понимала, что Семену Исидоровичу хочется ехать именно в Киев, где его несомненно ждала видная общественная роль. Однако Тамаре Матвеевне теперь было страшно оставлять Петербург. Кременецкие до войны каждое лето ездили всей семьей за границу, во время войны — в Крым или на Кавказ. Случалось Тамаре Матвеевне, с тех пор, как Семен Исидорович стал богатеть, уезжать и зимою, без мужа, вдвоем с Мусей, на Ривьеру, в Италию, — хотелось отдохнуть, заказать в Париже, в Вене новые туалеты, или просто, как говорил Кременецкий, людей посмотреть и себя показать (семья Меннера также уезжала зимою из Петербурга, но не за границу, а на Иматру, что было сортом пониже). Однако никакого сравнения с прежними путешествиями теперь, разумеется, не могло быть. Тогда все было ясно. Семен Исидорович, любивший порядок и определенность во всем, заранее заказывал билеты в международных вагонах, устанавливал дни отъезда и приезда, выписывал «аккредитив», всегда с излишком в добрую треть против того, что им было нужно, по мнению Тамары Матвеевны. «В дороге могут экстренно понадобиться лишние деньги. Или там тряпки какие-нибудь вам полюбятся», — энергично говорил он. Эту энергию, определенность и щедрость Тамара Матвеевна очень любила в Семене Исидоровиче, — они особенно ее умиляли. Ценила их в отце и Муся, называя «мужским началом». У Семена Исидоровича в дороге был всегда довольный, спокойный и уверенный вид, означавший, что все в полном порядке и что никаких неприятностей не бывает и быть не может.
Теперь все было темно. Кременецкие не знали, на сколько времени они едут. Не ясно было даже, зачем они едут. Правда, каждый, кто мог, уезжал, и жизнь в Петербурге становилась все более тяжелой, но это определенности не вносило. Хуже всего было то, что Муся должна была остаться одна в Петербурге. Тамара Матвеевна расставалась с дочерью в первый раз. Это и само по себе было ей очень не легко, а теперь казалось Тамаре Матвеевне делом чудовищным. Вначале она о разлуке не хотела слышать и решительно доказывала, что, уж если ехать в Киев, то не иначе, как всем вместе.