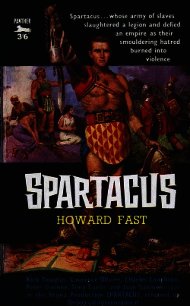Подвиг Сакко и Ванцетти - Фаст Говард Мелвин "Э.В.Каннингем" (книги без регистрации .TXT) 📗
Поглядите на меня, губернатор. Разве я похожа на жену убийцы? Разве человек, о котором я говорю, мог безжалостно убить другого человека? За что вы хотите его уничтожить? Каких кровожадных дьяволов вам надо насытить этой жертвой? Что мне вам еще сказать? Я думала и думала обо всем, что мне надо вам сказать, а вот у меня ничего и не осталось, кроме слов о том, как он был нежен, и добр, и кроток; часто в своем саду он мне напоминал Святого Франциска. Знаете, чего он хотел? Он хотел, чтобы каждый человек владел тем же, чем владеет он сам: доброй женой, хорошими детьми и работой, которая всякий день приносит кусок хлеба. Вот и все, чего он хотел. Вот для чего он был радикалом. Он утверждал, что люди на всей земле должны быть так же счастливы, как счастлив он. Вы говорите, он убил? Он никогда не смог бы убить. Ни разу в жизни он не поднял руки на другого человека. Никогда! Вы ведь помилуете его, правда? Пожалуйста, помилуйте его. Я стану на колени и буду целовать вам ноги, сохраните его в живых для меня и для его детей…
Губернатор слушал ее без малейшей тени волнения. Мелкие, правильные черты его чисто выбритого самодовольного лица не отражали ничего. Он слушал вежливо и внимательно и даже не запротестовал, когда сестра Ванцетти разразилась потоком итальянских слов. Человек, сопровождавший ее, переводил слова итальянки, но не мог передать страстной интонаций ее голоса; однако и без того речь Луиджии Ванцетти была исполнена покоряющей, выразительной силы. Она рассказывала, как проезжала через Францию и как рабочие там уговорили ее возглавить шествие десятков тысяч людей по улицам Парижа.
— Они пожелали мне бодрости и удачи; ведь ты, сказали они, придешь к губернатору той страны, где живет твой брат, и расскажешь ему правду о Бартоломео Ванцетти, о человеке с добрым сердцем, чувством справедливости, ясной мыслью и огромным достоинством. Вы думаете, что я одна говорю вам это? Меня послал отец. Отец мой — старый человек. Он стар, как один из тех древних старцев, о которых рассказано в библии, и он сказал мне: ступай в землю Египетскую, где сына моего держат в неволе. Предстань перед лицом сильных мира сего и вымоли у них жизнь для моего сына.
Профессора словно ударило, когда он увидел, что писатель плачет. А писатель из Нью-Йорка плакал просто и открыто, не пряча своих слез; потом он так же открыто вытер глаза и посмотрел в упор на губернатора. Губернатор встретил его взгляд, — это нисколько не смутило властителя штата Массачусетс. Он выслушал все, что сказали ему обе женщины, и так же, как и тогда, когда говорил профессор, помолчал из вежливости, чтобы удостовериться в том, что они кончили свою речь. Потом он заговорил совершенно бесстрастно:
— Мне искренне жаль, что я ничем не могу облегчить вашего горя. Я знаю его источник, — но — увы! — в данном случае закон неумолим. Мне было нелегко взглянуть на события шестилетней давности чужими глазами. Многие свидетели давали свои показания, словно они произносили затверженный урок, а не вспоминали о том, что было в действительности…
Профессор уголовного права не мог больше вынести.
— Я должен уйти, — сказал он писателю. — Понимаете? Я должен уйти!
Писатель кивнул. Они встали и торопливо вышли из комнаты. В коридоре толпились репортеры. Один из них закричал:
— Дал он согласие отсрочить казнь?
Профессор отрицательно покачал головой. Они вышли с писателем на освещенную солнцем улицу, где по- прежнему расхаживали пикетчики. Писатель обернулся к своему спутнику и пожал ему руку.
— Что поделаешь, — сказал писатель. — Таков мир, где мы живем. Не знаю, существует ли какой-нибудь другой мир. Рад был познакомиться с вами. Я буду помнить вас и ваше мужество.
— У меня нет мужества, — жалобно ответил профессор.
Писатель вернулся в ряды пикетчиков, — это ведь было все, что ему оставалось теперь делать, — а профессор уголовного права, тяжело ступая, направился в комитет защиты Сакко и Ванцетти.
Глава одиннадцатая
Не было еще и четырех часов дня 22 августа, когда люди, сотни людей, начали собираться на площади Юнион-сквер, в Нью-Йорке. Одни спокойно стояли небольшими группами, другие медленно прохаживались по площади, третьи слонялись, как потерянные, словно искали что-то, что не так-то легко найти. Здесь же была и полиция.
На крышах домов вокруг площади были выставлены ее наблюдательные посты, установлены пулеметы. Глядя вверх, люди видели силуэты полицейских, вырисовывающиеся на фоне неба, и тупые, уродливые морды пулеметов. Люди спрашивали себя: «Чего они собственно ожидают?» Тяжелое молчание лежало на площади. Неужели те, наверху, ждали, что с Юнион-сквера в Нью-Йорке выступит в поход на Бостон армия, чтобы освободить Сакко и Ванцетти?
Если бы полиции и пришла в голову такая дикая мысль, она могла бы сообразить, что уже слишком поздно. Был понедельник, и близился вечер. Даже человеческое сердце лишь на крыльях могло бы добраться до Бостона раньше полуночи.
Сразу же после четырех часов дня площадь стала заполняться. Как ни странно, первыми пришли женщины; их было много, и никто не понимал, откуда они взялись. Это были матери и домашние хозяйки, по большей части женщины из рабочего класса, бедно одетые, с натруженными, шершавыми руками, которыми они добывали свой хлеб насущный. Многие из них пришли с детьми, некоторые вели двоих или троих малышей, а самых маленьких несли на руках. И дети понимали, что сегодня прогулка не сулит им никакой радости. Когда собрались женщины, тут же возникли два стихийных митинга. Ораторы говорили, стоя на ящиках. Но полиция быстро рассеяла оба митинга.
Немного позже четырех часов на площадь стали прибывать большие группы рабочих. Здесь находились уже сотни меховщиков и шапочников, бастовавших в этот день в знак протеста против казни и солидарности с осужденными. Теперь среди них появились чернорабочие- итальянцы; их трудовой день начался в семь утра и окончился в четыре пополудни. Они пришли на Юнион-сквер прямо с работы, с обеденными судками в руках, разгоряченные, усталые и грязные. Они подходили по четыре, по семь, по десять человек. В половине пятого начался новый митинг. Полиция направилась было его разгонять, но туда же двинулись другие рабочие. Неожиданно митинг так разросся, что полиции пришлось махнуть на него рукой.
На площади появилась группа моряков торгового флота — ирландцы, поляки, итальянцы, человек шесть негров и два китайца; они держались вместе, пробиваясь сквозь людской водоворот. Увидев двух плачущих женщин, они остановились, смущенные тем, что не могут помочь чужому горю. Невдалеке от них упал на колени проповедник-евангелист.
— Братья и сестры, помолимся! — воскликнул он.
Несколько человек собрались вокруг него, но их была немного. Потом со стороны Четырнадцатой улицы, обогнув Бродвей, на площадь въехали три длинные открытые полицейские машины. В них прибыло большое начальство из полицейского управления на Центральной улице. Они вылезли из машин и оглядели площадь, затем пошептались, провели нечто вроде совещания и отбыли на своих машинах на Западную Семнадцатую улицу. Там, в отдалении, они образовали командный пункт. Дюжина полицейских охраняла их машины, где лежали винтовки и гранаты со слезоточивым газом.
Полицейские на крышах с любопытством следили за тем, как заполняется площадь. Сперва, глядя вниз, они видели лишь отдельные фигуры мужчин и женщин, стоявших то тут, то там. Последовавшая затем перемена казалась сверху стихийной по своей природе и такой же неизбежной, как процесс химической реакции. Отдельные люди вдруг слились в группы. Никто не подавал сигнала и, казалось, далее не сдвинулся с места. Все произошло в полном молчании. Потом группы мужчин и женщин соединились в три или четыре отдельные толпы. Площадь окружали швейные фабрики. Около пяти часов из фабричных зданий вылился поток рабочих. Еще несколько минут, и Юнион-сквер превратился в сплошное море людей. А ведь это было только начало. Затем из верхней части города пришли дамские портные, из нижней прибыли на площадь мебельщики и рабочие бумажных фабрик. Людские потоки текли из издательских фирм и типографий с Четвертой авеню. Сотни стали тысячами. И тогда беспокойное, неуемное движение людей прекратилось. Теперь они стали человеческой массой. Над людским морем глухо нарастал гневный гул.