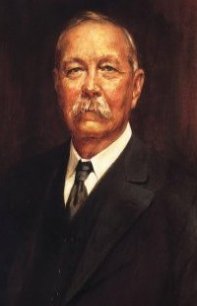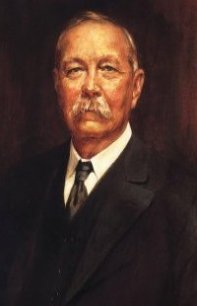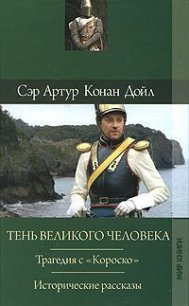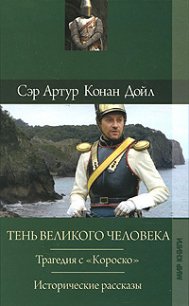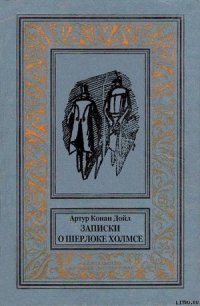Тень великого человека - Дойл Артур Игнатиус Конан (читать книги онлайн без сокращений .txt) 📗
Когда я вспоминаю об этом сражении, то мне всего страшнее кажется то, что на каждого из моих товарищей оно произвело различное действие, потому что некоторые вели себя в этом случае так, как будто бы они сидели у себя дома за обедом, и оно не возбуждало в них ни любопытства, ни удивления, другие же, с первого пушечного выстрела до последнего все время бормотали молитвы, третьи так бранились и выкрикивали такие проклятия, что тех, кто их слышал, продирал мороз по коже. Так, пример, один из них, тот, который стоял слева от меняй Майк Тредингем, который всем надоедал рассказами о своей тетушке, старой деве, Сарре – о том, что она завещала те деньги, которые хотела отдать ему, на приют для детей погибших на море матросов. Он, Бог знает сколько раз, рассказывал мне эту историю, но когда кончилось сражение, то он побожился, что во весь этот день не промолвил ни слова. Что же касается меня, то я не могу теперь сказать, говорил я или нет, но, я помню, что мой ум и моя память были яснее, чем когда-либо, и я все время думал о моих стариках и о доме, о кузине Эди с ее смелыми бегающими глазками, о де Лиссаке с его кошачьими усами, обо всем том, что произошло в Уэст-Инче и благодаря чему мы очутились на равнинах Бельгии и служили мишенью для двухсот пятидесяти пушек.
Во все это время грохот пушек был ужасным, но они вдруг замолкли, и это было похоже на то, когда во время грозы замолкает на минуту гром, но так и ждешь, что вдруг раздастся удар, который был сильнее всех предыдущих ударов. Был еще слышен сильный шум на одном из отдаленных флангов, где подвигались вперед пруссаки, но это было за две мили от нас. Остальные батареи, как французские, так и английские, молчали, и дым рассеялся настолько, что обе армии могли немного видеть одна другую. Возвышенность, на которой мы стояли, представляет собой ужасное зрелище, потому что на том месте, где прежде находилось немецкое войско, были видны только там и сям отдельные кучки солдат в красных мундирах и линии в зеленых мундирах, между тем как массы французов казались такими же плотными, какими были прежде, хотя, конечно, мы знали, что они потеряли не одну тысячу в этих атаках. Мы слышали у них громкие веселые крики, и затем все их батареи сразу так загрохотали, что в сравнении с этим грохот выстрелов в начале сражения казался слишком слабым. Теперь грохот этот был вдвое громче, потому что всякая батарея подвинулась вдвое ближе, в упор, а спереди и сзади каждой батареи были огромные массы кавалерии для того, чтобы защищать ее от атаки.
Когда раздался этот адский грохот, который совершенно оглушил нас, не было ни одного солдата, даже мальчика-барабанщика, который не понял бы, что это значит. Это было последнее сделанное Наполеоном усилие, чтобы уничтожить нас.
До темноты оставалось только два часа, и если бы только мы могли продержаться до этого времени, то все пошло бы хорошо. Умирая от голода и совершенно изнемогая, мы просили Бога только о том, чтобы у нас хватило силы заряжать ружья, колоть врага, стрелять в него и биться до тех пор, пока хоть один из нас останется в живых. Пушечные выстрелы Наполеона не могли сделать нам большого вреда, потому что мы лежали ничком, и мы в одну минуту могли представить из себя массу штыков в том случае, если бы на нас опять напала бы его кавалерия. Но среди грома пушек вдруг послышались какие-то более резкие звуки, как будто бы что-то рассеяло воздух и подвигалось со стуком, – это был какой-то топот, какой-то наводящий ужас шум.
– Они идут в атаку! – закричал какой-то офицер. – На этот раз они хотят атаковать нас по-настоящему.
И в это время, когда он говорил это, мы увидали нечто страшное. Какой-то француз, в мундире гусарского офицера, подскакал к нам галопом на маленькой лошадке. Он кричал, что есть духу: «Vive le roi! Vive le roi!» – и это означало, что он был дезертиром, так как мы были на стороне короля, а он – на стороне императора. Проезжая мимо нас, он крикнул по-английски: «Гвардия идет! Гвардия идет!» и потом исчез за арьергардом подобно древесному листу, гонимому бурей. В ту же самую минуту к нам подъехал адъютант, и, надо сказать правду, что я ни у кого не видел такого красного лица, какое было у него.
– Вы должны задержать их, а иначе мы погибли! – закричал он генералу Адамсу, так что вся наша рота могла слышать его слова.
– Как идут дела? – спросил генерал.
– Из шести тяжелых полков остались только два слабых эскадрона, – отвечал он и затем начал смеяться, как человек, который не может сдержать себя, потому что у него расходились нервы.
– Может быть, вы пожелаете соединиться с нашим авангардом? Пожалуйста, считайте себя одним из наших, – сказал генерал с поклоном и улыбкой, как будто он пригласил его на чашку чая.
– Мне будет очень приятно, – отвечал тот, снимая с головы шляпу; через минуту после этого все наши три полка соединились, и бригада выдвинулась на четыре линии из впадины, где мы лежали, изображая собой каре, по направлению к тому месту, где мы видели французскую армию.
Теперь ее почти совсем не было видно; можно было видеть только красное пламя, которое изрыгали пушки, и которое вдруг вспыхивало среди облаков дыма, и черные фигуры, которые наклонялись, суетились, чистили пушки швабрами, банили их – работали, точно черти, исполняя эту адскую работу. Но за этим облаком дыма становились все слышнее и слышнее эти стук и шум рассекаемого воздуха, смешанные с громкими криками и топотом многих тысяч ног. Затем показалась сквозь дым какая-то большая черная масса, и нельзя было разобрать, что это такое; наконец, мы могли разглядеть, что это были сто человек, идущих в ряд, которые быстро продвигались к нам в своих высоких меховых шапках с блестящими бляхами надо лбом. За этой сотней шла еще сотня, за ней следующая сотня и так далее, сотня за сотней; эта огромная колонна выходила из дыма, стоявшего в воздухе от пушечных выстрелов, и казалось, что ей не будет конца. Впереди шла цепь застрельщиков, а за ними барабанщики, и все они шли, как-то подпрыгивая; по бокам подвигались плотной толпой офицеры; они махали своими саблями и весело кричали. Впереди ехало также двенадцать человек верхом; они кричали все вместе, и один из них поднял высоко свою шляпу на острие сабли. Я опять повторяю, что никогда и нигде не сражались так храбро солдаты, как в этот день французы.
Надо было только дивиться на них, потому что, когда они подвинулись на известное расстояние, они ушли вперед от своих собственных пушек, так что те не могли подать им помощи, а между тем очутились перед двумя батареями, которые стояли целый день справа и слева от нас, и мы видели, как длинные красные линии пробегали вдоль по черной колонне по мере того, как она подвигалась вперед. Они были так близко к нашим пушкам и шли такими сомкнутыми рядами, что всякий выстрел пробивал насквозь их десять рядов, но, несмотря на это, ряды их снова замыкались, и они шли вперед так свободно и с такой отвагой, что на них было любо-дорого смотреть. Голова их колонны направлялась прямо на нас, между тем как 95-й полк приходился против одной стороны колонны, и 52-й – против другой.
Я всегда думаю, что если бы мы стали ждать, то гвардия разбила бы нас в пух и прах, потому что, как могла бы состоящая из четырех рядов линия устоять против такой колонны? Но в эту самую минуту Кольбэрн, полковник 52-го полка, развернул свой правый фланг так, чтобы выставить его против одной стороны колонны, и это заставило французов остановиться. В эту минуту линия их фронта находилась на расстоянии сорока шагов от нас, и мы могли хорошо разглядеть французов. Мне сделалось смешно, когда я вспомнил о том, что всегда считал французов людьми небольшого роста, потому что в первой роте не было ни одного солдата, который не мог бы поднять меня с земли, как будто бы я был ребенком, а от своих высоких шапок они казались еще выше. Это были суровые солдаты с крепкими мускулами и сморщенными лицами, с нахмуренными бровями, что придавало им свирепое выражение, и с торчавшими, как щетина, усами. И когда я стоял, положив палец на курок и дожидаясь команды стрелять, я случайно взглянул на офицера, который ехал верхом, держа свою шляпу на сабле, я увидел, что это был де Лиссак.