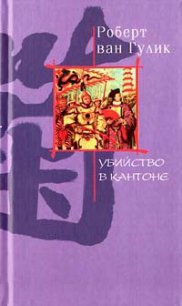Завоеватели - Мальро Андре (книги онлайн без регистрации полностью txt) 📗
Мы с юнаньским секретарём Николаева останавливаемся перед чем-то вроде завода, входим в гараж, пересекаем его по свободному проходу между «фордами», пересекаем также двор. Перед нами — здание с крышей без загнутых краев и длинной белой стеной, на которой дожди проложили широкие зелёные дорожки, словно кто-то плеснул на лету кислотой из ведра. Вот и дверь. Перед ней — часовой в холщовых туфлях на плетёной подошве. Сидя на ящике, он показывает автоматический пистолет детям, самые маленькие среди них — совсем голые. Мой спутник предъявляет пропуск. Чтобы взглянуть на него, часовой встаёт, слегка отодвигая от себя детей, словно гроздья одной ветки. Мы входим. Глухой гул голосов, в котором то там, то здесь тонут отдельные фразы, поднимается нам навстречу вместе с густым синеватым туманом. Я различаю только две большие солнечные призмы, пронизанные мельчайшими пылинками. Отражаясь от окон, они косыми полосами падают сверху вниз в сумрак комнаты. Свет, пыль, чад, расплавленный, сгустившийся воздух, в котором табачный дым чертит свои узоры. По-прежнему мы слышим только гул голосов, рассеивающихся как пыль. Но вот под влиянием прерывающегося голоса оратора, который не виден в сумраке зала, этот гул упорядочивается, превращаясь в скандирование: «Да, да! Нет, нет!» Похожие на приглушённые удары гонга, крики толпы сопровождают каждую фразу оратора и, подобно ответам в литании [7], вносят ритм в его речь.
Мои глаза постепенно привыкают к сумраку. В зале — никаких украшений. Три эстрады: на одной — стол, за ним перед большой картиной с иероглифами (может быть, это завещание Сунь Ятсена? Я не могу прочитать, это слишком далеко) сидят председатель и два заместителя; на второй эстраде — оратор, которого мы видим и слышим одинаково плохо; на третьей — что-то вроде маленькой кафедры, за которой вполне можно различить пожилого китайца с тонким изогнутым носом и седыми волосами бобриком. Опершись на локти, выставив грудь вперёд, он ждёт.
Толпа, которую я теперь могу рассмотреть, неподвижна. В небольшом помещении — четыреста или пятьсот человек. Возле стола — несколько студенток с остриженными волосами. Большие вентиляторы на потолке тяжело бьют по сгустившемуся воздуху. Слушатели — солдаты, студенты, мелкие торговцы, грузчики; одни из них прижаты в толпе друг к другу, другие стоят почти свободно. Они выражают одобрение выкриками, вытягивая шею вперёд (как это делают собаки, когда лают), туловище же их остаётся неподвижным. Не видно скрещенных рук, локтей, опирающихся о колени, подбородков, охваченных ладонями; прямые негнущиеся тела без каких-либо признаков жизни и искажённые страстью лица с челюстями, двигающимися вперёд. И всё время набегают волной крики одобрения, этот лай.
Но вот голос оратора становится достаточно отчётливым, и я понимаю, что это голос Гона. Гон не запинается, как бывает, когда он переходит на французский. Он говорит громко, быстро. Это уже конец речи.
— Они утверждают, что принесли нам свободу! Мы уничтожили Империю за пять лет, разбили её, как яйцо, они же в это время ещё пресмыкались под кнутом своих военных сановников. И они заявляют устами платных агентов, своих прислужников, что научили нас делать Революцию! Но разве мы в них нуждались? Разве у вождей Тайпинга были русские советники? А у боксёров?
Речь Гона состоит из обычных китайских штампов, но произносятся они исступленно и прерываются всё более многочисленными гортанными криками «Да, да!». Гон с каждой фразой повышает голос. Теперь он уже кричит:
— Когда наши угнетатели решились уничтожить пролетариев Кантона, разве русские потрясали бидонами с бензином? А кто швырял в реку этих скотов, продавцов-добровольцев?..
— Да, да! Да, да! Да, да!
Мао стоит по-прежнему неподвижно, облокотившись на кафедру, и молчит. Совершенно очевидно, что почти все собравшиеся здесь — на стороне оратора. И было бы бесполезно убеждать их, что в одиночку они не одержали бы победы над продавцами-добровольцами.
Гон, который говорит, вероятно, уже довольно давно, добился того, чего хотел. Он спускается с эстрады и, так как ему ещё надо выступить на других собраниях, поспешно уходит среди почтительного гула голосов, с которым начавший свою речь Мао справиться не может. Невозможно разобрать ни одного слова. Собрание было подготовлено: мне кажется, что протесты и крики исходят всегда от семи или восьми одних и тех же китайцев, рассеянных по залу. Толпа, несмотря на враждебность, несомненно, хотела бы послушать Мао — пожилого человека и знаменитого оратора. Но он не повышает голоса. Продолжая говорить среди криков и воплей, он внимательно осматривает различные части зала, настроенного против него. Наконец он понимает, что тех, кто его прерывает, увлекая аудиторию за собой, совсем немного. И тогда окрепшим голосом, который внезапно стал хорошо слышен, обводя собравшихся широким жестом руки, Мао переходит в наступление:
— Посмотрите на тех, кто здесь меня оскорбляет, старается прервать мою речь, потому что страшится моих слов.
Волнение. Очко в пользу Мао: каждый оборачивается, чтобы посмотреть на одного из анархистов. Против Мао теперь не весь зал, но лишь его противники.
— Тех, кто кормится на английские деньги, в то время как наши забастовщики умирают с голоду, их по меньшей мере…
Конец фразы невозможно разобрать. Мао наклонился вперёд, рот его широко раскрыт. Со всех концов зала несётся всевозможная брань. Она звучит по-китайски на все лады. В общем гвалте выделяются слова:
— Собака! Продавшийся! Предатель! Предатель! Грузчик!
Может быть, Мао продолжает свою речь, но его не слышно. Между тем оглушительный шум идёт на убыль. Несколько единичных оскорблений как последние аплодисменты в театре… И тогда Мао, подняв обе руки над головой и внезапно удвоив силу голоса, разом вновь завладевает вниманием:
— Вы называете меня грузчиком? Пусть так! Я всегда был вместе с бедняками. И я не буду их оскорблять, как это делаете вы, упоминая грузчиков в одном ряду с ворами и предателями. Почти ребёнком…
(Происходит схватка между анархистами и теми, кто хочет слушать. Но она не заглушает слов оратора.)
— …Я поклялся связать свою жизнь с жизнью бедняков, и никто не сможет освободить меня от этой клятвы потому, что тех, перед кем я её давал, уже нет в живых…
И обе руки вперёд, раскрыв ладони:
— Вы, бездомные, вы, голодные, вы все! Вы, для которых нет даже имени, — разгрузчики леса, волочильщики лодок, вы, которых узнают по рубцам на плечах, и вы, которых узнают по рубцам на бёдрах, — чернорабочие порта! Слушайте же, слушайте тех, чьё высокомерие оплачено вашей кровью. Каково! Эти прекрасные господа кричат «грузчики» с тем же самым выражением, с каким только что я говорил «собаки», имея в виду их самих!
— Да, да!
Снова одобрительные выкрики:
— Да, да!
— Смерть тем, кто оскорбляет народ!
Кто кричал? Неизвестно. Голос прозвучал слабо, нерешительно.
Но тотчас сто голосов подхватывают:
— Сме-е-е-ерть!..
Это раскат грома, крик возмущения, превращающийся в вопль. Слова едва различимы, но достаточно и того, как их выкрикивают.
Анархисты пытаются подойти к трибуне. Но Мао пришёл не один. Его люди, которым на этот раз помогает толпа, охраняют подходы. Один из анархистов, взгромоздившись на плечи своего товарища, пытается что-то сказать. На него тут же набрасываются, валят на пол, бьют. Начинается потасовка. Мы пробираемся к выходу. В дверях я оборачиваюсь: в сгустившемся чаду смешались светлые костюмы, просторные белые одежды, синие и коричневые лохмотья портовых рабочих; колеблющиеся, расплывчатые фигуры с торчащими кулаками, над которыми взлетают шлёмы цвета мела…
На улице я замечаю удаляющегося от нас Мао. Я пытаюсь его догнать, но безуспешно. Может быть, ему не хочется, чтобы его сегодня видели в обществе белого.
Я иду в больницу пешком. В одиночестве. То, как Мао выпутался из ситуации, в которой оказался, делает честь его находчивости, но что было бы, если бы кто-то по оплошности не крикнул «грузчик»? Одержанная благодаря чистой случайности победа ничего не меняет. К тому же Мао защищал только себя… Мой спутник-юнанец, прощаясь со мной, сказал:
7
Вид молитвы в католицизме, которая читается во время торжественных религиозных процессий — Прим. перев.