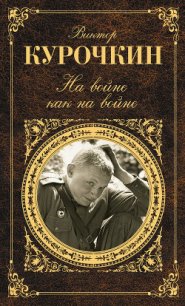Журба(Повесть о хорошем человеке) - Щербак Владимир Александрович (читать книги без регистрации .txt) 📗
— Ну как? — спросил он родителей для пущей важности, хотя и сам знал, что это его лучшая работа.
— Гарно! — в голос ответили дед Сергей и бабка Евдоха.
— Ото ж Ванюшка будет радый!
— Скорийше бы вертался з войны!
— Не скоро он придет! — хмуро сказал от порога Семен, только что вошедший в хату. — В больнице он…
Когда Иван пришел в себя, то первым делом посмотрел на свои ноги, накрытые простыней: бугорков от ступней не было, значит и самых ступней… тоже? Он перевел взгляд на Кудрявцева, тот вильнул глазами, словно виноватый, и сказал преувеличенно бодро:
— А ты молодец, даже не ругался во время операции!
— Ходить смогу?
— Я ж обещал.
— И на том спасибо…
Потом он спросил о своих товарищах — Иване Шкете и Флоре Дьяченко, которых потерял в зимнем лесу во время стычки с казаками. Доктор об этом ничего не знал. Но фельдшер Пантелей Рыжков, у которого сын был в партизанах, зайдя позже в палату, рассказал, что ему удалось узнать. Шкет и Дьяченко, оба раненые, попали в руки белых. Сначала их держали в Спасской тюрьме, потом зачем-то перевезли в Никольск-Уссурийск. На допросах били, как водится. Не добившись от партизан сведений об отряде Борисова, каратели решили их расстрелять. В ночь перед казнью они сумели бежать из тюрьмы, расшатав и погнув ржавые решетки на окне камеры. Они промучились с нею всю ночь и вышли на волю только на рассвете. Сразу была поднята тревога, начались поиски беглецов, и партизаны весь день просидели на свалке сразу за тюрьмой почти по горло в мусоре и нечистотах. Поздней ночью они вылезли и отправились в Михайловку, осторожно пробираясь от села к селу, пока не добрались до Константиновки, в окрестностях которой находился отряд…
Только через три месяца Иван увидел подарок отца. Отпущенный Кудрявцевым, он пришкандыбал к дому на костылях в каких-то жутких ботинках (они были скукоженные после антитифозной прожарки, на обычные ноги не налезали, и фельдшер отдал их Журбе). Дед упрекнул его:
— Чого ж ты пехом-то? Мы збирались за тобой на телеге…
— Ничего, диду. Надо привыкать…
Крестьянские семьи, как правило, сдержанны в своих эмоциях; закаленные суровой жизнью, эти простые люди скупы на слезы, равно как на объятья и поцелуи. Но когда отец, бабка и дед увидели своего сына и внука, обычно стремительного, спортивного, а ныне идущего странной, переваливающейся походкой, осунувшегося, даже постаревшего, они почувствовали, как у них защипало в глазах.
Иван степенно поручкался с домочадцами, встретившими его во дворе, тяжело поднялся на крыльцо и скрылся в хате. Тут только Евдоха заплакала, прикрывая рот рукой. Мужики держались, только кряхтели.
— Хороши, — сказал Иван, разглядывая новые сапоги. — Где матерьял достал?
— А-а, — с досадой махнул рукой Евдоким Сергеевич. — Какая разница! Главное, что я опять тебе не потрафил!
— Ты ж не виноват. Продай их. Затраты хоть окупишь.
— Нет! — отрезал отец. — Коли тоби не суждено носить их, нехай лежать. Твоему сыну, моему внуку достанутся.
За скромным праздничным столом никто не прикоснулся к бутыли с самогоном, выставленным бабкой, но ели долго, молча и обстоятельно. А когда стали пить чай, дед Сергей не выдержал:
— И хде ж ты зараз будешь працюваты?
— Как где? — ответил за сына Евдоким. — Ясно дило: со мной! Будет у нас чтось навроде артели инвалидов. Вдвох працюваты и веселее, и прибыльнее…
— Да вин жеж вчитель! — подала голос бабка. — Це ж ганьба: вчитель працюэ чоботарем!
— Никакого позора здесь нет. Учительство — дело хлопотное, весь день на ногах… А у нас, чоботарей, праця сидяча, спокийна… К тому же жалованье вчителя звистно якое — 60 карбованцив, стильки стоит солдатская шинель или три фунта халвы. Да я на одних подметках бильше зароблю!..
Иван слушал эти разговоры и молча улыбался. Он-то знал, чем будет заниматься…
Лес, когда видел его Иван последний раз, был черно-бел и враждебен. Нынче же, ранним летом, тайга смотрелась приветливой, праздничной, словно это было совсем иной мир: сочно зеленела молодая листва дерев и трав, белыми колониями росли ландыши и красно-желтыми — саранки; нескончаемое бормотанье ручья-ворчуна не могли заглушить многочисленные птицы, вернувшиеся из зимних отпусков и теперь радостно перекликавшиеся — токовали фазаны, крякали утки, свистели камышевки…
Журба стоял на поляне перед штабной землянкой, тоже, кстати, зазеленевшей по верху, окруженный партизанами. В отряд он пришел не на костылях, чтобы не вызывать к себе жалости, а с палочкой. Лица боевых друзей были радостными и одновременно сочувственными. Сологуб, Шкет, Кобыща, Дьяченко и другие жали ему руку, хлопали по плечам, засыпали вопросами, на которые Иван не успевал отвечать. Гомон несколько поутих, когда из землянки вышел Борисов. К удивлению многих, командир не улыбался; напротив: лицо его было строгим, даже суровым, тонкие губы поджаты настолько, что превратились в одну линию. Некоторое время он молча смотрел на Ивана, потом произнес:
— Ну, здравствуй, казак красный! Молодец, что выполнил боевую задачу, что не попался в руки врага, что выжил… Только вот…
— Я, товарищ командир…
— Погоди, я еще не закончил… Только вот зачем ты явился в отряд?
— Как зачем? Воевать! Война-то продолжается, и до тех пор, пока на нашей земле творят зло интервенты и всякая контра…
— Ты не на митинге! — вновь оборвал его Борисов. — И здесь не инвалидный дом, а боевой партизанский отряд, для которого ты в твоем нынешнем состоянии, уж извини, стал бы обузой!
Вместе с недосказанными словами Иван сглотнул обиду. После паузы пробормотал, опустив голову:
— Ну тоди пристрелите меня, як поранену коняку, щоб не катувалась… Мэни зараз байдуже!
Лицо Андрея Дмитриевича скривилось, как от боли. Тон его смягчился.
— Послушай, Щедрый… — Командир умышленно назвал Журбу старой подпольной кличкой, давая понять, что все помнит. — Ты ведь знаешь, как я к тебе отношусь. Вон в восемнадцатом поддался на твои уговоры и взял тебя в Красную гвардию, хотя тебе было только пятнадцать лет…
— Дякую…
— Благодарит он меня! Как будто я его на вечеринку взял… Да не имел я права это делать! Вот, в конце концов, и не уберег тебя…
— Зараз я вже не маленький хлопчик!
— Все равно, у тебя еще вся жизнь впереди! Иди в школу, работай учителем… Как писал Демьян Бедный: «Красной армии штыки, чай, найдутся, без тебя большевики обойдутся!»
— Учительствовать буду после победы!
— Ну, займись чем-нибудь другим! — уже раздраженно бросил Борисов. — А здесь тебе не место. Прощай!
— Я не уйду отсюда! — твердо сказал Журба.
Командир пожал широкими плечами и скрылся в землянке.
Иван только сейчас ощутил, что у него давно уже болят ноги. Он проковылял к бревну-коновязи, сел на лежавшее на земле седло и стал оглядываться, наблюдая привычную жизнь партизанского отряда.
Утренняя прохлада сменилась дневной жарой, солнце пробивалось сквозь листву и пятнало лагерь. Нега и лень владели им. Если кто и чистил винтовку или точил шашку, то делал это без особого энтузиазма, большинство бойцов, растелешившись, валялись на траве. Над летней кухонькой дрожал невидимый на солнце дым; раскрасневшаяся Настена в повязанной до глаз косынке стряпала обед. (Отпустил-таки ее с братом в отряд отец, сельский кузнец Василий Шкет, причем, говорят, дочь отпустил легче, чем сына: девок-то у него четыре, а сын один, да и тот нужен был в кузне). Вскоре от кухни поплыл сытный запах кулеша, зазвякали оловянные миски и ложки, послышались оживленные голоса — лесное воинство готовилось к трапезе.
— Иван Евдокимович, сидайты з нами исты!
Журба поднял голову — Настёна.
— Спасибо. Не хочется.
— Та сидайты!
— Я же сказал: не хочу!
Настена отошла с огорченным видом, но продолжала время от времени бросать на него взгляды, в которых была и любовь девушки, и жалость матери.
Долговязый Степан Сологуб, который первый был не только в драке, но и за обеденным столом, был как всегда в центре внимания. С жадностью поглощая кашу, он одновременно рассказывал украинский анекдот, слышанный, очевидно, от родителей-переселенцев: