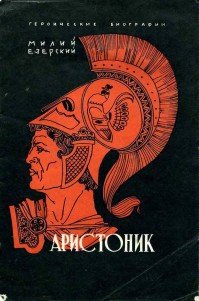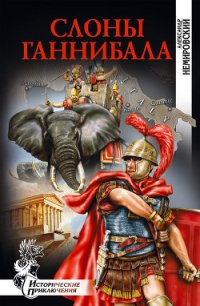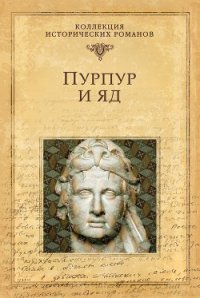Гракхи - Езерский Милий Викеньтевич (читать полные книги онлайн бесплатно TXT) 📗
Она слушала, прижимая руку к сердцу, как Сципион одевается в темноте, шуршит туникою. Вот он идет тихо, тихо на цыпочках. Вышел в атриум.
Она встала и босиком пошла за ним. От мозаичного пола ногам было холодно, голое тело зябло под короткой одеждой.
Атриум был залит серебристо-лимонным светом луны, проникавшим сверху.
Притаившись, Семпрония смотрела: муж остановился у почетного кресла хозяйки, медленно обозревая статуи и развешанные мечи, копья, щиты — трофеи победоносных войн.
Затем подошел к ларарию; в нише, облитой светом, белели статуи: по обеим сторонам Венеры стояли лары в коротких туниках, почти без рукавов, в повязках, обвитых вокруг бедер; в высоко поднятой правой руке они держали рог изобилия, а в левой — жертвенную чашу.
Она последовала за Эмилианом в перистиль: колонны, похожие на остолбеневших людей, отбрасывали от себя длинные тени, статуи и вазы смутно блестели, объятые дремотою. Сзади, в водоеме, казалось, сверкало расплавленное олово, а здесь было темно.
Сципион сел, облокотившись на столик. И опять возникла Лаодика: легкая, воздушная, она шла, приближалась к нему, и солнечная улыбка Афродиты, небесные глаза, обнаженные руки — все это сияло ярче солнца, ярче жизни, ярче безмятежного счастья. Она остановилась перед ним, заглядывала ему в глаза, а он испытывал невыразимое томление, грусть и муку. Кто-то стоял за спиною, как предостережение, и он, честный, знал, что переступить нельзя: удерживает долг, а этим долгом была его жена, внучка Сципиона Африканского Старшего.
Очнулся, встал.
Семпрония притаилась за колонною; сердце колотилось в груди с такой силой, что она задыхалась.
Что делать? Подойти к нему? А если он рассердится?
Она тихонько возвратилась в спальню. Легла и, уткнувшись лицом в подушку, долго плакала, пока не забылась тяжелым, тревожным сном.
Встала чуть свет с головной болью, с глазами, опухшими от слез. Украдкою взглянула на мужа: он спал, разметавшись; голова его свесилась, и лицо белело в полумраке, как у покойника.
«Не приснилось ли мне, что он вставал, а я выходила в атриум?»
Второпях одеваясь, она поглядывала на него: «Нет, не приснилось. А если и приснилось, то разве от этого легче? Он стал иным: я для него посторонний человек, как рабыня, клиент или вольноотпущенник».
— Публий, ты спишь?
Эмилиан встрепенулся, сел на постели.
Бронзовая кровать, служившая днем диваном, была покрыта жестким тюфяком в отличие от мягкой пуховой постели жены; смятое пурпурное одеяло свешивалось к полу.
— Разве уже пора? А я проспал..
Он засмеялся, покачал головою. Но и смех уже был не тот, что прежде: надломленный, он болью отзывался в ее сердце, и она сдерживалась, чтобы не выдать своего горя.
Время до обеда тянулось томительно долго. Проходя мимо таблина, она видела Сципиона за столом, над свитками папируса; глаза его смотрели вдаль с таким восторгом, точно он любовался чем-то невообразимо прекрасным. Может быть, этрусскими орнаментами? Они изображали черные и красные прямоугольники, пересеченные большими алыми прямоугольниками на черном фоне.
Семпрония остановилась, кашлянула.
Эмилиан очнулся:
— А, это ты!
Столько равнодушия было в его голосе, что она опустила голову: перед глазами запестрела мозаика, — по решетчатому рисунку пола бежали вертикальные пунктиры; между ними, казалось, извивались розовые и зеленые веревки, а посредине ширилось сплетение, такого же цвета, с промежутками внутри и посредине.
Сципион вспомнил, что утром, во время приема клиентов, Лизимах звал его посмотреть на свитки папируса и пергамента, полученные от друзей из Египта и Пергама: «Они очень хороши, и ты будешь писать на них свободно. Этот пергамент выделывался из самых нежных кож; он бел и настолько тонок, что сквозь него на свет видны предметы. Есть также фиолетовые и пурпурные цвета, но ты их не любишь. Кроме того, я получил хорошую свиную кожу для переплетов».
Эмилиан подумал, что папирус и пергамент у него на исходе, и решил пойти к греку.
Но он себя обманывал: не за этим шел он к Лизимаху и не Ксенофонт прельщал его, — перед ним мелькало прозрачным, едва уловимым видением ее лицо, оно приближалось, входило в него, прикасалось к его сердцу горячими губами.
Никогда он не думал, что красота способна так очаровать человека. Он помнил слова Платона, но принимал их на веру, как неоспоримую истину, и теперь, когда красота породила Эрос, он, суровый воин, имеющий преданную молодую жену, ослеплен, покорен юной гречанкой, дочерью хитрого человека, к которому питает отвращение.
«Как же это случилось, что я не удержался, не поборол себя? — подумал он, но тотчас же успокоился. — Никто об этом не знает, я тверд и переломлю себя. Я не буду любоваться ею, замкнусь в суровое равнодушие сильного человека, чтобы себя не выдать».
Выходя на улицу в сопровождении раба, он сказал жене, что идет к клиенту Лизимаху за пергаментом и папирусом. Семпрония, невеселая, удрученная и непривычным отношением к себе мужа, и тяжелым, как бы предгрозовым настроением во всем доме (рабы, чувствуя что-то неладное между хозяевами, говорили шепотом, избегая возвышать голос), кивнула и отвернулась, готовая заплакать. Она хотела спросить, скоро ли он вернется, но удержалась: не все ли равно?
Сципион шел, властно охваченный мыслями о юной гречанке. Он не заметил, когда очутился у дома Лизимаха, и только голос раба вывел его из тяжелой задумчивости:
— Господин, мы пришли.
Раб с низким поклоном распахнул дверь, и Эмилиан, входя в вестибюль, загляделся на художественное изображение собаки на мозаичном пороге с полушутливой надписью: — «Остерегайся собаки».
Он видел этот рисунок в тот раз, когда был у Лизимаха, но не обратил внимания, торопясь пройти поскорее, а теперь все казалось ему иным, более действительным, принимало отчетливые, как бы облитые ярким светом, формы.
В атриуме не было никого, и он смутился, не решаясь громким зовом нарушить молчание. Но в доме, очевидно, уже знали, что пришел патрон: шорохи, шепоты, мягкое топание ног доносились отовсюду, и Сципион ожидал клиента, стоя посреди атриума.
Он осматривался, точно попал в этот дом впервые: в комплювий, украшенный львиными головами, виднелся голубой клочок неба, а из широкого окна просторного таблина выступали колонны перистиля. Он успел увидеть промелькнувшую тень женщины, но лица ее не рассмотрел — занавес задернулся, — таблин и перистиль с колоннами исчезли, как сладкое сновидение.
Взгляд его упал на имплювий, возле которого стоял на изогнутых ножках широкий стол, уставленный вазами и статуэтками. На краю его лежало круглое ручное этрусское зеркало с изображением резвящихся нимф. На вазах были искусно нарисованы: бой Кадма с драконами, свадьба Кадма с Гармонией, Геракл, уводящий Кербера из подземного царства Аида при помощи Гермеса. Статуя молодого гермафродита поражала тонкостью, изяществом линий, благородством лица.
Мягкое кресло, в виде трона, с тремя ступеньками и высокой спинкой, обитой ковриком, было придвинуто к имплювию, и Эмилиан несколько минут любовался искусно вышитым рисунком: крылатый ассирийский бык с человеческой головою, украшенной длинной бородой и тиарою, смотрел добрыми глазами, в которых светились спокойное могущество и расположение к человеку.
«Кресло для хозяина», — подумал Сципион о троноподобном кресле и тут же обратил внимание на биселлы, кресла с двойными сидениями, на стулья без спинок и на субселлии, или скамьи, покрытые тирским пурпуром с голубым, фиалковым и аметистовым оттенками. Небольшие круглые столы, об одной ножке из слоновой кости, были разбросаны по атриуму, как безделушки. Но все это затмевали вазы и статуи… Он смотрел, и богатство клиента вызывало в нем удивление.
На небольших столах стояли греческие кубки — скифосы и канфары — деревянные, глиняные, бронзовые, серебряные, золотые, с затейливым рисунком, с орнаментами, с драгоценными камнями, и среди них римский серебряный, на котором танцующая вакханка, казалось, возносилась на небо. Статуэтки, вазы и чаши из обожженной глины поражали своим разнообразием: рядом с гречанкой в одежде, расцвеченной розовой, желтой и голубой краской, стояла ваза в виде утки с изображением нагой девушки, раскинувшейся на спине; крылатый дионисийский Эрос — толстенькое дитя с протянутой рукой — занимал большую часть афинского кубка.