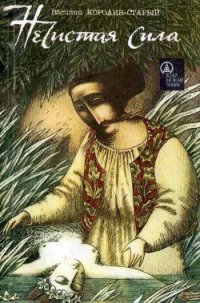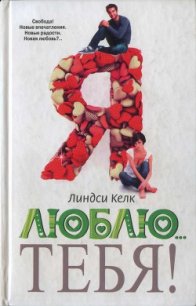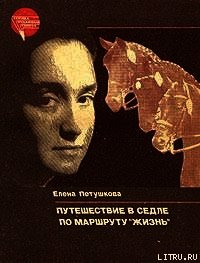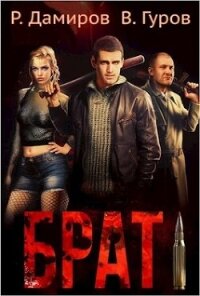Бурсак в седле - Поволяев Валерий Дмитриевич (читаем книги онлайн .txt, .fb2) 📗
Осенью четырнадцатого года оба полка отбыли на фронт. Семенов оставил после себя воспоминания о том, как его родные забайкальцы ехали на запад, как мирные российские граждане шарахались от лохматых шапок бурятов-агинцев и путали их с японцами, рассказывал и о том, как его полк совершил остановку в Москве, Калмыков же не оставил ничего — на писанину его не тянуло, он считал это дело бабьим и удивлялся, как это солидные люди — Семенов, Дутов, Краснов, — опускаются до занятий пустяками. Ведь это недостойно казаков.
Уссурийские пади были свежи от зелени, осень еще не коснулась их, хотя утром и вечером по траве уже скребли своими лохматыми животами неряшливые холодные туманы, загоняли в норы зверьков, а в дремучих чащах перекликались лешие.
Пустела без мужиков земля.
Забираясь в полковой вагон, Калмыков неистово перекрестился — без веры на войну уходить нельзя.
Через месяц полк уже был на фронте, рубился с «немаками», как казаки звали немцев.
Воевал Калмыков храбро, с толком, за спины казаков не прятался, ходил в разведку — маленький, юркий, он мог пролезть в любую щель, спрятаться под любой кочкой, на немцев набрасывался со злостью, и именно злость позволяла ему одолевать дюжих мордастых швабов, они не выдерживали натиска этого маленького, схожего с мальчишкой офицера, вздергивали руки вверх.
Начальство не могло нарадоваться на хорунжего Калмыкова — проворен, умен, задирист; если дать ему задание, чтобы взял в плен кайзера — возьмет и Вильгельмишку. Только задания такого никто Калмыкову не давал.
А так, глядишь, перехватил бы сухорукого где-нибудь в тылу, в собственном вагоне, — и войне пришел бы конец. Вильгельм любил воевать и передвигаться по подведомственным территориям с комфортом — в роскошном вагоне, обставленном дорогой мебелью, — мебель кайзеру сработали специально из красного дерева, с роскошной широкой спальней, в которой можно было уложить не только кухарку, но и королеву какого-нибудь маленького, походя завоеванного государства с огромной золоченой ванной, где можно было плавать — в общем, любил кайзер жизнь и в удовольствиях себе не отказывал, обставлял свой быт с комфортом.
А комфорт и безопасность — вещи, которые стоят на разных полках, но на это кайзер не обращал никакого внимания… Вот и чесал иногда хорунжий Калмыков себе затылок, прикидывал, как бы половчее ухватить кайзера за тощую ляжку…
И получалось у хорунжего — мог бы ухватить Вильгельмишку, скрутить его в рулон, в мешке перетащить на свою сторону, только вот приказ ему нужен… вышестоящего начальства. А вышестоящее начальство голову себе ломать по этому поводу не хотело.
Вздыхал Калмыков сочувственно — самому себе сочувствовал, вновь чесал затылок, втихаря поругивая командира кавалерийского корпуса, в который входил и Уссурийский казачий полк — совсем не ловил мух мужик, прозреть не может, что в подчинении у него такой боец находится, и, кинув под голову охапку соломы, заваливался спать в какую-нибудь пустую двуколку.
Должности в полку Калмыков перебрал за короткое время самые разные, как и в саперном батальоне, но больше всего ему понравились две — командира сотни и начальника пулеметной команды. Самостоятельные должности всякому солдату дают возможность почувствовать себя человеком, — если есть божья искра в сердце да извилины в голове, можно много сделать для того, чтобы швабы почаще задирали лытки вверх.
Калмыков старался. Работать шашкой научился не хуже машины. Вахмистр Саломахин, служивший под его началом в четвертой сотне, восхищенно округлял глаза:
— Когда их благородие крутит шашкой мельницу, в круг можно глядеться, как в зеркало, и бриться — все видно.
Действительно, круг вращения калмыковской шашки был сплошным, без провалов, в него, наверное, можно было смотреться, но вот насчет бриться — сомнительно. Калмыков отводил в сторону довольный взгляд: похвала боевого вахмистра была ему приятна.
Вахмистров в четвертой сотне было двое — Саломахин и Шевченко. Перед Шевченко, кстати, делались робкими даже генералы: он имел полной георгиевский бант, а по официальному положению в старой России генерал обязан был первым отдавать честь полному георгиевскому кавалеру. Даже если у кавалера не будет на погонах ни одной лычки, а локти гимнастерки украшены заплатами.
Конечно, генералы перед кавалерами-рядовыми во фрунт не вытягивались и каблуками хромовых сапог не щелкали, но козыряли исправно. Поэтому Гавриил Матвеевич Шевченко держался особняком не только в четвертой сотне, но и во всем полку, но никогда не обидел ни одного человека — просто не мог сделать это в силу своего характера: был Шевченко мужиком добродушным, из тех, что даже муху лишний раз не смахнет на стол, постесняется — а вдруг мухе будет больно?
И вместе с тем он не был рохлей, этаким хлебным мякишем, способным распустить слюни при виде какого-нибудь толстого шваба в плотно нахлобученной на котелок каске; в минуты опасности вахмистр действовал стремительно, жестко, ввязывался в любую драку и в драках этих, как правило, побеждал.
Хотя и был вахмистр Шевченко человеком терпимым, старался к каждому живому существу относиться с пониманием, даже к букашкам, но Калмыкова не любил, щурил непонимающе глаза и укоризненно качал головой — и чего этот кривоногий гриб-мухомор суетится, отчего во всю глотку орет: «Ура»?
Ведь то же самое можно сделать тихо, без мельтешни и лишних воплей. У Шевченко это получалось всегда, у Калмыкова не получалось никогда. И вообще зачастую он планировал сделать одно, в ходе операции менял цель и делал совсем другое, в результате же получалось третье. Там, где надо было продумать операцию, обмозговать детали, подготовить все тщательно, так, чтобы комар носа не подточил, Калмыков обычно действовал с наскока, стараясь проскочить сразу в дамки… Как в игре в шашки. Но шашки — это одно дело, совершенно безобидное, а война — совсем другое.
Тем не менее командир полка отмечал, что «хорунжий Калмыков воюет храбро», особенно отличился он в бою за деревню Нисковизны четырнадцатого марта 1915 года, а двадцать пятого мая в приложении к приказу № 475 по Уссурийскому казачьему войску было объявлено, что хорунжий удостоен ордена Святого Святослава третьей степени с мечами и бантом.
Конечно, Святой Святослав — не это Святой Георгий, белый эмалевый крест, но все равно — большой орден. Тем более — с мечами.
Хорунжий был так рад награде, что в первые дни даже спать ложился с орденом, но потом привык, стал относиться к награде спокойно, а потом и вовсе начал принимать ее за обычную железку. Вахмистр Шевченко награды вообще не носил: Георгиевские кресты — штуки дорогие, из чистого серебра отлиты, а первой степени — вовсе из золота, если потеряешь или таракан во сне откусит, когда будешь ночевать в хате у какой-нибудь крутобедрой румынки, то все — дубликаты не выдают, поэтому ордена свои дорогие вахмистр Шевченко хранил в седельной сумке вместе с медалями, бритвой и двумя фотокарточками, взятыми из дома, — здесь они будут целее. Ибо если не таракан, то какой-нибудь шваб в драке кресты откусит — эти деятели любят питаться русскими орденами — хрумкают и щурятся от удовольствия. А удовольствия врагу Шевченко не привык доставлять, скорее наоборот.
Как-то жарким июньским днем Калмыков зашел в избу, где вместе с пулеметчиками отдыхал Шевченко. На улице пекло так, что ко всякой железяке, жарившейся на открытом солнце, невозможно было прикоснуться — тут же возникал волдырь. Хорунжий смахнул с лица пот:
— Ну и жарища! На железной дороге могут рельсы расплавиться! — Глиняной кружкой он зачерпнул из ведра воды, сделал несколько глотков. Кадык с шумом, будто неисправный челнок, заездил у него по шее. — Как же местный народ тут живет? Бани никакой не надо… Каждый день баня.
Он сел на лавку, оглядел спящих казаков. Шевченко, лежавший на топчане, приподнялся на локтях..
— Чего изволите, ваше благородие?
Степенность вахмистра, его неторопливые движения, спокойный, чуть прищуренный взгляд раздражали Калмыкова. Шевченко был сработан, в отличие от него, совсем из другого материала.