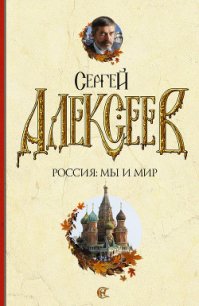Может собственных платонов... Юность Ломоносова - Андреев-Кривич Сергей Алексеевич (читать книги без .txt) 📗
Простоит дом много лет, не осядет, не покривится, уж наверняка не придется его жаравить — вставлять в основание новые бревна. В доме не только два жила, на нем еще вышка, что придает ему вид трехжильного, трехъярусного, трехэтажного.
Нарядным дом делает и выход — галерея, которым он обложен на уровне второго этажа. Обходя по выходу дом, можно закрывать ставни, утеплять зимой окна. Красит его и узорная причелина, ровно, стежками прострочившая его по краю кровли, остро поднявшейся над домом; над этой узорной доской немало потрудился резчик. Такой же резьбой обложены оконные косяки. Узор и на столбах, которые держат кровлю крыльца. И на самую дорогу вынесся выпущенный по князьку гордо вскинувший голову конек [66].
Жилых помещений в первом этаже (низ) два: собственно изба и теплая горница, отделенная от избы толстой прочной стеной. А на втором этаже (верх) — теплая горница, а к ней еще и холодные. В вышке устроена летняя горенка, светелка. За окном светелки еще один выход небольшой. Окно обложено снаружи наличником с четырьмя балясинами, которые обегает частым крутым винтом резьба.
Не прост дом и внутри.
Гладко обструганные широкие лавки, идущие вдоль стен избы, — опушённые, то есть к ним приделаны опушки: к лавочной доске пришита другая, узорная, спускающаяся к полу. По опушке плавной волной идет прорубленный топором узор.
Подойдешь к дверям — они не просто на петлях, но на петлях узорных же. Узоры идут и по оконницам, в которые вставлены большие тонко расщепленные листы зеленоватой слюды. Вон на той, на большой, оконнице в середине изображена еще и птица, поднявшая крылья, выпустившая когти.
А какой коник встречает входящего в избу!
Эта короткая лавка, идущая от двери в угол, с подъемной доской, под которой устроен ларь, украшена в ломоносовском доме на диво вырубленной конской головой. А второй коник, что у печки! Украшающая его голова изогнулась, что твоя лебединая.
И русская печь в ломоносовском доме, конечно, не руда, то есть не черная печь, и сложена она из кирпича, а не бита из глины. Стоит она на брусчатом опечке, как бы на фундаменте, на опечке, сложенном из толстых, хорошо обструганных и ладно пригнанных бревен.
Ведущая из избы в горницу дверь украшена резьбой.
Хорошо заплатил Василий Дорофеевич Ломоносов плотникам, которые рубили и наряжали дом. Добрые спрыски устроил он им, когда «князевую подымали», то есть ставили князек, что торжественно отмечается при постройке дома. Соседи говорили: «Плотники-то сегодня горланят песни и не стукают: видно, князевую подымали, дак вином Василий-от напоил».
Крыт ломоносовский дом настоящим толстым тесом, а не пиловым. В тесинах, вырубленных топором, а не пиленных, пробит по всей длине желоб, эти тесины кладутся на кровле одна желобом вверх, другая вниз, накладываются краями одна на другую. Такую тяжелую крышу, настоящую тесовую, уж не сорвет ветер.
И добра в доме!
Над покрытым скатертью дубовым столом — в черной раме зеркало. У стены — раскрашенный красками, с двустворчатой дверью — поставец, где хранится серебро и посуда. Ценное имущество разложено по большим и малым сундукам, погребцам, коробьям и ящичкам.
По полкам расставлена добротная медная, до блеска начищенная посуда: большие и малые братыни, в которых разносят пития, пиво на всю братию и разливают по чашкам, чаркам, ендовы, медяники [67].
Скляницы, синие, зеленые, белые, стоят рядом с серебряными чарками. Старинные иконы, «божье милосердие» по-здешнему, в аршин вышиной, обложенные серебром, выстилают большой, или красный, угол.
В сундуках немало добра лежит: кафтаны на меху, камзолы с серебряными пуговицами, женские телогреи, лазоревые, лимонные. Сложены в ящики серебряные и золоченые серьги, перстни, жемчужные ожерелья.
Выйдешь наружу: толково поставлен хлебный амбар — двужильный, баня, овин, гумно — крытое. Посредине усадьбы вырыт пруд — ломоносовское новшество, над прудом низко склонились ивы. В летний вечер тучные коровы подходят с лугов к скотному двору.
Хорошо поставлено ломоносовское хозяйство, крепко срублен дом, весело смотрит он на дорогу. Все так и должно говорить людям о ломоносовском довольстве и спокойной жизни.
Спокойной жизни?
Вот этого-то и нет теперь в зажиточном доме Василия Дорофеевича. Все сильнее хмурится отец, все более молчаливым делается сын.
И что и как решится сегодня утром?
— Ну, Михайло, будто кончаются твои науки. К чему же они тебя привели? Какую правду открыли? — спросил Василий Дорофеевич, начиная хорошо обдуманный разговор. — Ты сядь, беседа не короткая.
— Какую правду? Такую, что человеку потребно всегда идти вперед.
— Правда хорошая. Только новая ли? Еще в запрошлом годе, как на Колу мы шли, про то же тебе я говорил. Однако почему ты с твоей книжной правдой от меня прячешься? Сумрачен стал, говоришь мало. Не пристало с правдой прятаться. Да еще от кого — от отца родного. Я вон чую в своем истину — прямо и говорю. Ты-то почему молчишь?
— Не потому, что моя правда мала.
Отец крякнул.
— Так. Обиняками-то навык говорить. Вроде троп ты в жизни нехоженых ищешь. А мало ли уже по жизни троп прошло? Вот об одной для тебя и думаю. Слушай. Зверя я промышлял, рыбу ловил, по морю ходил, в «Кольском китоловстве» состоял. Делал все, к чему помор приставлен. А того кроме, купишь на свои деньги соль, муку или иное что, в другое место, к другим людям перевезешь, там продашь, смотришь — прибыль сама идет. Деньга деньгу делает, деньга к деньге катится. Дело-то вокруг деньги вертится.
— А не всякое, батюшка. И вот еще что. Несытая алчба [68] имения и власти род людской к великой крайности приводила. Какие только страсти эта алчба не будила в сердцах! И многое зло она устремила на людей. С ней возросли и зависть и коварство. Дело, что вокруг деньги вертится, не всегда доброе.
— Во всем можно недоброе совершить, ежели к тому охота.
И тут, наконец, Василий Дорофеевич Ломоносов сказал сыну то, о чем давно уж думал. Давно думал, но говорить не хотел: не время еще, рано. Это заветное он и открыл теперь Михайле:
— В купцы выйдешь.
Не удивляется Михайло и не радуется.
— Будто не рад?
Михайло молчал.
Тогда Василий Дорофеевич почти крикнул с досады:
— Да о чем же ты думаешь?
— Книги мне новое открыли…
— С тем новым в купцы и пойдешь, в купеческом деле оно тебя и укрепит.
— Все вперед идти. По книгам.
— Мое-то не вперед ли? Купеческого пути тебе уже мало?
— По книгам путь далекий и свободный.
— Какая такая свобода? Невдомек.
— Какая? Разуму. Искать.
— Доищешься. Ежели руки и. ноги у тебя связаны, какая свобода разуму может выйти? Ты вот скажи мне, что ты таков есть?
Михайло не понял.
— Мужик ты есть. Сын крестьянский. И как же тебе полную свободу книги дадут? А мое-то даст. Купеческая жизнь другая, свободная.
Михайло молчал.
— Как же ты думаешь идти со своими науками вперед у нас, в здешнем? Ежели не в наше дело, не в хозяйство, то во что с книгами и науками становиться будешь?
— Вроде не во что.
Помолчав, Михайло тихо добавил:
— У нас.
— А… Вон что. Только запомни: без моего дозволения никуда не уйдешь. Пашпорта не получишь. А без пашпорта если где окажешься, то нашего брата, мужика, кнутом бьют.
Хотя Михайло и сам знал об этом, но под сердцем у него закипело:
— Кнутом? Мужика?
— Уж так учреждено. Вот такая свобода и выйдет тебе по твоим книгам. Понял? Иди и раскинь умом. Тебе вон на архистратига Михаила [69] девятнадцать. По-взрослому и думай.
Надев полушубок, Михайло вышел наружу.
Стоял солнечный весенний день. Тонко пели ручейки, промывшие себе узенькие кривые дорожки в наледи. Уже сухо пестрели бурые проталины на буграх и около стволов деревьев, по которым поднялись теплые весенние соки. В глубоко проезженных дорожных колеях белела галька. Около изб доходил черный бугристый лед, покрываясь у краев мягкой земляной кромкой.
66
Князек — верхняя балка, по которой связываются стропила, поддерживающие крышу; конек — украшение крыши в виде конской головы.
67
Ендова — сосуд для разлива напитков; медяник — горшок из меди.
68
Алчба — жажда.
69
На архистратига Михаила — восьмого ноября (по старому стилю).