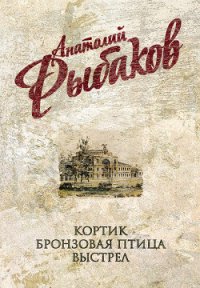К 'последнему' морю (др. изд.) - Ян Василий Григорьевич (бесплатные онлайн книги читаем полные версии .txt) 📗
- Что ты, что ты, Гаврила Олексич! Не по купцу товар даешь! Такую богатую рубаху носить бы именитому боярину, а с меня хватит и дерюги.
- А коли тебе рубаха не по нраву, так ты ее обменяй.
- Да мне за такой товар пять холстинных рубах дадут... Только стану ли я твой подарочек менять? Вернусь домой, в шелковой рубахе в избу войду, то-то моя старуха начнет причитать да дивоваться!
Другие плотовщики, сидевшие у костров, вскочили и, подойдя, осторожно щупали огрубелыми пальцами добротность ткани.
- Ладно! - сказал Олексич. - Рубаха твоя, что хочешь, то с ней и делай!
И он отошел к другим кострам. Подсаживался к плотовщикам я всех расспрашивал об их житье-бытье... У всех на уме были только родная сторонка, седой Волхов, суровое, угрюмое Ильмень-озеро.
- Маленько еще потерпите! Достройте Батыевы хоромы. а там вместе двинемся домой.
Одарив особенно сноровистых и усердных в работе, опустошив свой мешок, Олексич отходил на бугор. Оттуда он подолгу смотрел в туманную даль. Где-то слышалась переливчатая, заунывная песня, доносились стуки топоров, надрывные стоны и рев верблюдов, ржание коней и знакомые, родные, русские напевы. И опять проходили дни...
Каждый вечер в шатре Олексича собирались гости: соратники и друзья Бату-хана. Слуги подавали сладкие вина в запечатанных смолой глиняных кувшинах, сушеный виноград, лепешки и жирные палочки сладкого печеного теста.
Охмелевшие, лежа на подушках, они любили слушать непонятные чуждые перезвоны струн и песни прибывших с Олексичем двух новгородских гусляров. Иногда Гаврила сам начинал петь, и голос его, низкий и звучный, казалось, заполнял собой шатер.
Когда гости расходились, появлялись бесшумные рабыни, прибирали все вокруг, а старшая из них, с медными кольцами в ушах, шептала хмельному Гавриле:
- Моя прекрасная госпожа давно ждет своего обожаемого повелителя.
Олексич выходил, останавливался на краю обрывистого берега, долго любовался переливами воды, игрой отблесков лунного света. Кое-где мерцали огни костров. Уже лагерь грозного хана погружался в глубокий сон, только слышалась изредка перекличка часовых, взвизгивания неукротимых жеребцов и далекий лай собак. Насладившись красотой тихой ночи, Гаврила шел в шатер своей восточной красавицы. Он находил Зербиэт-ханум сидящей на небольшом коврике. С кошачьей гибкостью она бросалась на шею Олексичу, под тихий перезвон золотых и серебряных браслетов.
Яркий лунный свет, падая в прорези шатра, освещал ее черные зовущие глаза, тонкие подрисованные брови... Она заботливо спрашивала:
- Что задержало тебя так долго? Кого ты видел? С кем говорил? Какие вести получил от твоего преславного князя? Расскажи мне! Я так терпеливо ждала тебя.
- Потом, в другой раз! Сейчас я устал. Лучше расскажи мне сказку...
Олексич уносил ее на шелковые подушки и в полудремоте слушал удивительные рассказы о нежной прекрасной царевне, грустящей в роскошном дворце о своем суженом, уехавшем далеко на войну, или о злом волшебнике, обратившем царевну в птицу, или о том, как царевна, переодевшись в мужское платье, отправилась бродить по бесконечным дорогам Азии в поисках своего любимого, которого заточили в подвале старой крепости, откуда царевна, после многих приключений, его выручила...
Гаврила засыпал под журчание мелодичного голоса, но тревога не стихала, и в полусне ему казалось, что перед ним клубятся грозовые тучи и вереницей проносятся над серебристой ковыльной степью...
И вдруг точно острой стрелой кольнуло сердце; он вспомнил "их", страшных недругов, отлично вооруженных, в железных доспехах, на добрых конях, немецких всадников... Домой, скорей домой!
Глава седьмая. "ЖИВУЛИ"*
Однажды к шатру Гаврилы Олексича подошел седобородый странник с берестяным коробом за плечами. На нем был выгоревший на солнце зипун и обычный новгородский поярковый колпак. На поясе висели новые лапти - на обратную дорогу после длинного пути. Татарский часовой отталкивал старика, не подпуская к шатру.
- Боярин родимый! Гаврила Олексич! Где твоя милость? Услышь меня! Эти нехристи не пущают меня перед твои ясные очи. Весточку я тебе принес с родной сторонки.
Гаврила бросился из шатра, подбежал к страннику, обнял его за плечи:
- Знакомо мне твое лицо, а где видел - не помню...
- Да на торгу в нашем Новгороде. Я всегда там возле блинника стою, что насупротив Мирона-жбанника. Охотницкими силками занимаюсь: плету сети и на соболя, и на белок, и на тетеревов.
- Ну, пойдем ко мне. Посидим, поговорим. Порадовал ты меня.
- И еще порадую, - сказал странник, следуя за Гаврилой Олексичем в шатер и садясь возле тлеющих углей костра.
Он скинул потертый зипун, бережно сложил его, поставил перед собой берестяной короб и, став на колени, принялся в нем шарить.
- Как же ты сюда-то попал?
- Постой, постой, все расскажу кряду. Услышал я, боярин, что ты с плотовщиками и струговщиками пустился в далекие края на волжское низовье. И погоревал, что к вам не присуседился. Давно я задумал одно дело и пошел как-то на твой боярский двор посоветоваться со сватом моим Оксеном Осиповичем...
- Знаю хорошо, - подтвердил Гаврила Олексич. - Добрый и верный сторож он у меня.
- Нашел я свата, а он около крыльца стрелочки из щепок стругает. Обговорили мы с ним то да се, а тут хозяйка твоя, боярыня на крыльцо вышла. "Опоздал ты, дедушка, говорит, хозяин мой давно уже уехал в низовье Волги к царю татарскому Батыге наших пленников из неволи выкупать. И сколько еще раз черемуха зацветет, пока он домой вернется, не знаю. Только святителям молюсь, чтобы живым и невредимым его сохранили. А сам ты не согласился бы поехать его проведать? Запаса на дорогу говорит, я прикажу тебе выдать..." - "Можно! - отвечаю. - Волга мне река родная, знакомая. Сколько раз я когда-то по ней с молодчиками нашими ушкуи гонял!" Тут она позвала меня к себе в светелку и плакала, скажу без утайки, слезами обливалась. И вот что тебе передать велела... Старик вынул из короба и протянул Гавриле Олексичу большой комок седого мха.
Тот жадно схватил его и стал осторожно разворачивать. Внутри оказались так хорошо знакомые, обсосанные и потертые ребятками две искусно вырезанные из липовых чурбашек детские игрушки: одна изображала медведя на задних лапах, другая - мужика в поярковом колпаке, играющего на балалайке.
- И в мох этот сама боярыня игрушки детские завернула. "Пусть, говорит, от седого лесного мха на моего Гаврилу Олексича родным русским духом повеет, а то еще, упаси господи, дом родной позабыл, татарскую веру принял..."
Гаврила прижал мох к лицу и долго молчал, вдыхая знакомый запах хвои векового соснового бора. Глубокая тоска и нежность охватили его. Перед глазами как живой всплыл широкий двор родного дома, заросший буйной травой, где ходила его Любава с малюткой на руках, а старший в белой рубашонке, ухватившись за материнский подол, был еле виден в высокой траве. Вспомнились веселый смех жены, ямочки на румяных щеках и стук подковок сафьяновых полусапожек... Перед ним стали проплывать зубчатые стены старого Новгорода, величавое течение Волхова, шумное, беспокойное вече... Каким далеким и вместе дорогим и близким все это было! Скоро ли, наконец, его отпустит домой коварный татарский владыка?
Глава восьмая. ТРИ СЛОВА
Рано утром, еще в сумерках, к Олексичу явился знающий много языков толмач в пестрой чалме и полосатом халате. Он почтительно прошептал:
- Великий владыка Саин-хан требует к себе немедленно новгородского посла.
- Ты не проведал, для чего меня призывает великий хан? спросил Олексич, быстро одеваясь. - Для того ли, чтобы выказать мне свою милость, или чтобы излить на меня свой гнев?
- Что я могу сказать? Я только передаю то, что мне приказывают. Больше этого знает один аллах.
Гаврила вложил в руку толмача золотую монету. Тот смущенно повел плечами.
- Одно я подслушал: сегодня разговор будет о чем-то весьма значительном, большом, как гора или небесная буря. Но я буду тебя сопровождать к великому и стану тихо предупреждать обо всем, что тебе следует делать.