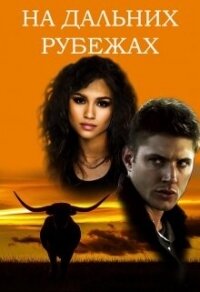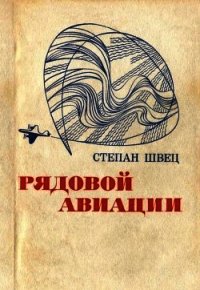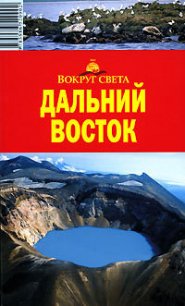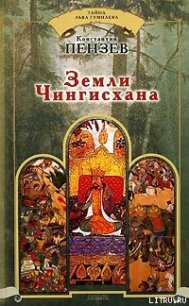На дальних рубежах - Мельников Геннадий Иванович (серия книг .txt, .fb2) 📗
Рано утром полиция и солдаты с берданами окружили переселенческие бараки. Подрядчик Кауров с полицмейстером и тремя городовыми по подсказке Кирилловича бесцеремонно стаскивали с нар сонных еще рабочих и грубо выталкивали во двор, где отдавали под стражу конфузившихся солдат. Кириллович-десятник, стремясь выслужиться перед хозяином, исходил черной руганью.
— Допрыгались, катюжане, сарынь, сейчас на нарах завоете, бурды тюремной похлебаете, денег семьям наработаете. Сахалин по вас плачет слезами горючими, благо он рядышком. Я вас, зачинщиков, всех наперечет знаю. Будете теперь народ с панталыку сбивать, смуту заводить.
Прошли они по всем баракам, по всем артелям и набрали зачинщиков много, человек двести пятьдесят. Тесно окруженные солдатами с берданками наизготовку, задержанные угрюмо побрели в город, к полицейскому управлению.
Кауров плелся сзади, за цепью солдат.
— Теперь за работу принимайтесь немедленно! — крикнул он, обернувшись, оставшимся стоять молчаливой толпой рабочим и издевательски добавил: — А денежки ваши пусть полежат, они у меня увеличатся в количестве и целее будут.
Из тысячной толпы поднятых на работу «контрактованных» Введенского, Журавского, Галецкого послышались возмущенные одиночные выкрики; их становилось все больше и больше и вот уже огромная масса голодных, уставших, оборванных, озлобленных людей качнулась вслед за солдатами и сперва медленно, нерешительно, а потом все быстрее, вытягиваясь по дороге в колонну, двинулась на выручку своим товарищам. Они шли по Посьетской, Алеутской, мимо штаба крепости и железнодорожной жандармерии, откуда уже скакали рассыльные за подмогой в казармы 1-го и 5-го батальонов за старым портом.
Впереди идущие солдаты, страшась догоняющих их рабочих, по команде офицеров принялись штыками в спины подгонять арестованных и перешли на бег трусцой.
Андрей шагал в середине колонны возмущенных рабочих, увлеченный общим порывом, удивляясь собственной дерзости и смелея от сознания силы.
«А ведь они нас боятся, — думал он, — они власть, у них оружие, полиция, солдаты, тюрьмы, а нас они боятся, вон, даже бегут».
Мимо строящегося вокзала, через полупустой еще рынок, вверх по Суйфунской подошли они к дому Даттана, арендуемому городской полицией и, окруженные еще большей толпой любопытствующих, принялись громко стучать в гулкие железные ворота. В окнах второго этажа появились испуганные лица полицейских служащих и в них снизу полетели камни, зазвенели разбитые стекла.
— Отпустите, верните наших товарищей, — требовали люди и настойчиво стучали в ворота и двери полицейского управления.
Вдруг стоявшие на Пекинской улице закричали: «Солдаты, солдаты идут», — и подались назад. А к ним вверх по улице поднимались ровные шеренги одетых в белые гимнастерки солдат, мерцая на утреннем еще солнце примкнутыми штыками. Надвигаясь теснее и теснее, они по команде остановились в саженях десяти и взяли винтовки на изготовку к стрельбе стоя. Передние рабочие отшатнулись от направленных им в грудь стволов, толпа спружинила и замерла.
— Ррразойтись! — звонким, жестко-враждебным голосом крикнул командовавший ротой капитан. — Разойтись! — повторил он. — Прикажу стрелять…
Толпа любопытствующих обывателей стремительно начала таять, а вместе с ней таяла и решимость рабочих. Глухо отругиваясь, выкрикивая угрозы и оскорбления в адрес солдат, дорожники расходились, растекались по улочкам, переулкам, дворам.
На работу и в этот день они не пошли. Вечером во дворе между бараками пили теплую, с ужасным запахом китайскую сулею, и Андрей попробовал. На душе у него было тоскливо-муторно, словно он напакостил, струсил, сбежал, бросил в беде товарищей.
Бесцельно бродивший по двору со злобной ухмылкой победителя на лице Кириллович, чуть ли не в глаза тыча грязным, с обломленным ногтем пальцем, сказал ему:
— Ты, сучий выродок, следующий!
Андрею стало еще горше, и он едва не завыл от отчаяния. Но ему уже сунули в руку полстакана сулеи, заставили выпить, похлопали, захлебнувшемуся, по спине увесистыми ладонями, дали загрызть коркой хлеба, посыпанной серой крупной солью, и отправили спать. Потом артели рабочих-железнодорожников рассредоточили по всей трассе от Владивостока до села Никольского и далее, до станицы Графской, что на Уссури-реке. Через месяц товарищи Данилы Буяного передали Андрею от него привет и сообщили, что Данила осужден на пять лет каторжных работ. Каторгу ему повезло отбывать здесь же, на строительстве дороги. Повезло потому, что не на Сахалин отправили, а оставили в теплом Приморье, и, главное, на строительстве дороги год каторги засчитывался за полтора, так что Данила, при примерном поведении, мог бы освободиться через три с небольшим года. Хотя, при его несдержанности и буйном характере, как бы не заработал он дополнительный срок.
К зиме их артель отправили на Суйфунские щеки, на восемьдесят вторую версту трассы. Там базальтовые скалы сдавили реку, и надо было на протяжении двух верст вырубить в скале полку для полотна дороги. Работа была адова: на длинных веревках спускали людей со скалы вниз и они рубили шпуры для динамитных патронов. Скалу рвали динамитом и порохом, а потом из цепи каменных ниш они вручную пробивали длинный карниз.
Жили в землянках и засыпанных землей балаганах, питались впроголодь, часто обмерзали, обрывались со скалы вниз, и некоторые погибли. Андрей был молод, прежде жил не много лучшей жизнью, поэтому сравнительно легко переносил все лишения. Но, наделенный излишне богатым воображением, он по вечерам с тоской и ужасом глядел с горы вниз, где в сторону Никольского на болоте был разбит лагерь каторжан. Лагерь по ночам освещался зажженными по периметру кострами, возле которых расхаживали солдаты с винтовками. Жили там, по слухам, в вырытых на болоте земляных ямах, по колено заполненных водой, все постоянно были простужены, многие заболевали чахоткой и умирали. Их кладбище густо белело свежими крестами.
Андрей ни разу не видел Данила, да и не знал, в этом ли он лагере. Хотя похожего человека приметил, но за дальностью расстояния уверенности не было. Пытался расспрашивать заходивших к ним изредка солдат охраны, но те угрюмо отмалчивались, стыдясь своей службы позорной, да и потому, что «не положено».
Уже в начале марта, когда солнце днем пригревало довольно сильно, снег остался только в лесу, а на полях и дорогах царила непролазная грязь, ночами, правда, подмерзавшая, Андрея среди ночи разбудили. Он недовольно было заворчал, но хорошо ему знакомый землекоп, тихий неприметный курянин, рябое лицо которого освещалось слабыми сполохами угасающей печурки, с самым таинственным видом приложил палец к губам и повелительным Жестом велел слазить с нар и идти за ним. Андрей нехотя оделся и выбрался из землянки. Ночь была лунная, ясная, морозная, звезды мерцали — рукой подать.
Курянин дернул его за руку.
— Пошли, Данила Буяный зовет.
Андрей обрадовался и испугался:
— Как, где он?
— Тихо, — шепотом грозно велел курянин, — иди за мной и молчи, что бы ни увидел.
Версты за две от их лагеря еще сохранилась жидкая рощица дубняка, на опушке редко перемеживающаяся березками. Остальной лес либо раньше по Суйфуну в город сплавили, либо на шпалы свалили, на домики, на обустройство землянок, а то и в печах и кострах спалили.
Они шли распадком по хрустящему под ногами снежному насту, когда из-за елочки, буквально рядом, шагнул Данила и приветливо, с лаской даже, полуобнял за плечи опешившего от неожиданности Андрея.
— Ну, здравствуй, Андрюха, свиделись!
— Здравствуй, Данила! Тебя отпустили? — понимая, что несет чушь, спросил Андрей.
— Сам ушел, мне там разонравилось. Ну, а как ты? Небось, в первые руки выбился? Окреп, возмужал, лицо уже не щенячье.
— И ты, Данила, здорово изменился, — в лунном свете Андрей видел изрезанное глубокими морщинами лицо Данила. — И шрам прибавился. И что-то хищное, ястребиное в лице появилось.