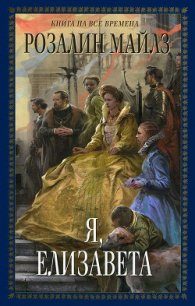Елизавета Петровна - Сахаров Андрей Николаевич (книги полностью TXT) 📗
Явился Яков, всё ещё служивший у графа, так как отпуск его на волю, несмотря на уплаченные за него графом помещику деньги, ещё не состоялся, ввиду того что ещё не были окончены все формальности, и спросил:
– Что прикажете, ваше сиятельство?
– Вот что: мне необходимо снова повидать этого странника, что к княжне ходил. Ты ведь знаешь, где найти его?
– Молодцы мои сказывали, что выследили его берлогу. Он живёт в лесу, неподалёку от дома княжны.
– А может быть, он оттуда ушёл? Так как же быть?
– Опять у калитки дома княжны подстеречь его или у кабака дяди Тимохи; есть такой там, на выезде из предместья, по ночам торгует, более для беглых да для таких, как этот, странников.
– Так ты уговорись со своими и начинай следить. Как сцапаете, так вяжите и прямо сюда. Если меня не будет дома, то до моего возвращения не развязывайте.
– Слушаю-с, ваше сиятельство. Я распоряжусь сегодня же.
– Я полагаюсь на тебя. Вот тебе на расходы! – И граф подошёл к шифоньерке, отпер её, вынул один из мешочков с серебряными рублями и бросил его Якову, сказав: – Лови!
Тот ловко поймал на лету, после чего был отпущен барином.
– Хорошо посмеётся тот, кто посмеётся последний, Татьяна Никитишна! – злобно вслух сказал граф. – Я-то не прощу вам сегодняшнего дня. Вы всё же будете моей, живая или мёртвая. Только бы скорей Яков добыл мне этого Никиту, остальное я всё уже устрою умело и обдуманно. Я вижу теперь, что сам виноват во всём. Не надо было медлить. Я дал ей время одуматься и подготовиться. Но увидим теперь, чья возьмёт!
Посидев ещё с полчаса в раздумье, Свенторжецкий уехал из дома. Он стал вести прежний светский образ жизни, но всё же каждый вечер или, лучше сказать, ночь с тревогой подъезжал к своей квартире.
– Ну, что? – спрашивал он отворявшего ему дверь Якова.
– Не нашли ещё, – отвечал тот.
Такой же вопрос задавал граф ему и каждое утро, но получал тот же далеко не удовлетворительный ответ.
Никита совершенно сгинул; его землянка оказалась пустою, в доме княжны Полторацкой он не появлялся, в кабаке Тимохи тоже.
Прошла неделя, и граф решил прекратить розыски.
«Она дала отступного, и он скрылся, – рассудил он. – Что же теперь делать?»
Его положение оказывалось действительно незавидным. Игра была проиграна. С исчезновением Никиты весь составленный им новый план рушился.
Между тем «самозванка-княжна» продолжала занимать всё более и более места в уме и сердце графа. Пленительный образ молодой девушки преследовал его неотступно. Разве не всё равно ему, была ли она княжной или же незаконной дочерью князя? Ведь она – вылитая княжна. Он не заметил в ней ни капли холопской крови, которую из любезности к своей невесте открыл в Тане князь Луговой.
И зачем ему было затевать всю эту историю? «Самозванка-княжна» была к нему благосклонна! Никто не сомневался в её знатном происхождении, никто не оспаривает у неё богатства, она – любимица государыни, одна из первых в Петербурге невест, он мог на ней жениться, вот и всё. Теперь же она для него потеряна. После происшедшей между ним и ею сцены немыслимо примирение.
Граф долго не мог представить себе, как встретится с нею в обществе, а потому умышленно избегал делать визиты в те дома, где мог встретить княжну Полторацкую. Вместе с тем у него явилась мысль, что она предпочтёт ему князя Лугового или Свиридова, и его душила бессильная злоба. Он воображал себе тот насмешливый взгляд, которым встретит его Людмила в какой-нибудь великосветской гостиной или на приёме во дворце.
– Посрамлён, уничтожен, и теперь окончательно! – повторял сам себе граф.
К довершению своего ужаса, Свенторжецкий стал убеждаться, что безумно любит эту посрамившую его девушку. Каприз своенравного человека постепенно вырос в роковую страсть. Граф не находил себе покоя ни днём, ни ночью; образ княжны неотступно носился пред ним.
Он жаждал видеть её и боялся встречи с нею. Однако момент этой встречи должен был наступить. Ведь они вращались в одном обществе и поневоле должны были столкнуться. Граф понимал это и каждый день ожидал, что это случится.
Наконец этот момент наступил. Они встретились в гостиной Зиновьевых, в день рождения Елизаветы Ивановны. Граф по необходимости должен был приехать с поздравлением к тётке и, несмотря на то, что нарочно выбрал позднее время, застал в гостиной княжну Людмилу Васильевну. Он смущённо поклонился, она приветливо протянула ему руку и промолвила:
– Опять я целую вечность не видала вас, граф. Он положительно как красное солнышко осенью: покажется – и нет его, – обратилась она к сидевшим в гостиной хозяйке и другим дамам. – Приедет ко мне с визитом, насмешит меня до слёз, а затем скроется на несколько недель.
– Чем же таким он смешит вас?
– В последний раз он рассказывал мне какую-то, как я теперь припоминаю, ужасную историю, выдавая её за истинное происшествие. Он, видимо, сам сочинил её, но, если бы вы видели, с каким серьёзным видом он говорит всевозможные глупости! Я сначала испугалась, приняла его за сумасшедшего и только после догадалась, что он шутит, что у него такая манера рассказывать!
– Мы не знали за вами такого искусства, граф. Это интересно. Расскажите когда-нибудь и нам что-нибудь такое, – напали на графа дамы.
– Княжна всё шутит и преувеличивает, – отбивался он.
– Ничуть не шучу. Настаивайте, мадам, чтобы он каждой из вас в отдельности рассказал по страшной истории.
Положение графа было ужасно. Он должен был улыбаться, отшучиваться, когда на сердце у него клокотала бессильная злоба против безумно любимой им девушки. Только теперь, снова увидев ту, обладание которой он так недавно считал делом решённым, он понял, до каких размеров успела вырасти страсть к ней в его сердце.
К счастью, разговор перешёл на другие темы. Княжна Людмила несколько раз особенно любезно обращалась к графу с вопросами, явно кокетничая с ним. У несчастного графа положительно шла кругом голова. Наконец княжна стала прощаться.
– Надеюсь видеть вас у себя, граф! – сказала она. – Пора бы вспомнить о сироте, живущей в предместье.
Свенторжецкий бессвязно пробормотал какую-то любезность. Княжна же глядела ему прямо в глаза своими искрящимися, смеющимися глазами, и он чувствовал, что точно тысячи иголок колют его сердце.