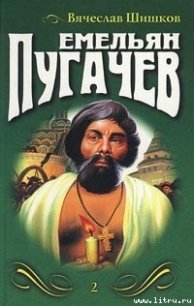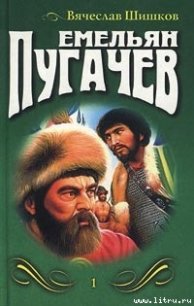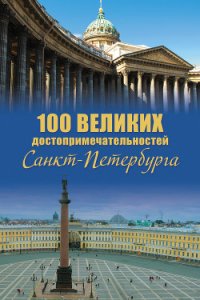Емельян Пугачев. Книга 2 - Шишков Вячеслав Яковлевич (читаем книги онлайн бесплатно полностью TXT) 📗
— На штурм! На слом, атаманы-молодцы! — слышались в темноте разрозненные выкрики, но в них мало было воинственного пыла.
Засев за своими завалами и укрываясь по задворкам от сильного крепостного огня, казаки кричали: «На штурм, на слом! Ги-ги! Ги…» — но сами ни с места.
От кучки к кучке перебегали озлившиеся и растерянные атаманы: хромой Овчинников, Витошнов, с подбитым глазом Каргин. Все вместе поощрительно взывали:
— Не трусь, казаки-молодцы. Вперед, вперед! Дай духу, дай духу!..
Один лишь Пугачёв мог бы увлечь за собою казаков и бросить их в бой.
Но он видел, что дело проиграно, и не хотел зря жертвовать самым верным своим оплотом. К тому же он не мог не понимать, что не в Симонове, не в Яицкой крепости наипервейшая задача, ведь он и походом-то двинулся сюда, уступая настоянию атаманов.
Штурм был отменен. Все труды с новым подкопом пропали даром. Симонов, видя бездействие со стороны мятежников, сбавил силу огня, а перед утром крепость вовсе замолчала. Однако крики, гиканье, устрашающий визг звучали со стороны штурмующих до самого рассвета.
Начались сборы Пугачёва в Берду. Тихий городок зашевелился: приводились в порядок сани, лафеты, колеса пушек, грузились возы рыбой, овсом, мукой, казаки чистили скребницами кошлатых своих лошадок.
Пугачёв говорил войсковому атаману Каргину:
— Послужи же, старик, мне верою и правдою. Я, государь, отправляюсь под Оренбург к своей великой армии, а государыню здесь оставляю. Ежели бог приведет, я вскорости возворочусь сюды. А вы все, от мала до велика, почитайте государыню все равно так, как и меня чтите, своего государя. И во всяк час будьте ей послушны.
— Сполню, батюшка, ваше величество, — сказал Каргин и, достав из кармана, подал Пугачёву две вырезанные печати с гербом и прописью «Петр Третий». — Вот, батюшка, государственные печати вам сготовлены…
— А-а-а, ништо, ништо… Знатно сработаны, — залюбовался Пугачёв печатями. — Кто делал?
— А делали их три серебряных дел мастера, дворцовые крестьяне, а четвертый — проживающий в нашем городке армянин.
Прошел в сборах день, наступила последняя ночь. Разлучаясь с мужем, Устинья плакала. Она лежала на кровати, прикрывшись до подбородка шелковым одеялом и разбросав по одеялу красивые обнаженные руки в браслетах и кольцах. Он взад-вперед ходил, босые ноги его неслышно ступали по пышному ковру. Нарядный кафтан был небрежно кинут на стул, лента со звездой валялась на столе, покрытом суконной вышитой скатертью. Стол был уставлен блюдами со сладостями, орехами, подсолнечными семечками и кувшинами с вишневой наливкой, квасом, медовой брагой. Скорлупки, шелуха, гребень с очесами волос, янтарные бусы. Две свечи горят. От изразцовой печки пышет зноем. Пугачёв в беспоясой рубахе, ворот расстегнут, широкие и длинные шаровары, как юбка.
Устинья глядит в пространство, слезы покапывают на подушку, но лицо у нее окаменелое, застывшее. Она говорит негромко, то вызывающе и властно, то робко и приниженно, и тогда Пугачёву становится жаль ее.
— Вот пир был, свадьба… Царицей я стала, — говорит она. — А на сердце-то спокойно ли у меня, на душе-то, ну-ка, спроси? Две недели скоро, а я все еще, как полоумная… Лихо мне.
Пугачёв на ходу почесывает поясницу, поддергивает шаровары, ерошит волосы, кряхтит. Он груб, прямолинеен, и в женской душе ему трудно разобраться. «Блажит баба», — думает он.
— Скажи, уж подлинно ли ты государь есть? — раздается её голос.
Пугачёв хмурит брови, молчит, сердито гремит кружкой, большими глотками пьет квас. — Сумнительство меня берет, почто ты женился на мне, на простой казачке? Обманул меня, молодость мою заел. Ведь ты человек старый, держаный, а мне восьмнадцатый пошел.
— Ну, ладно, ладно!.. Чего больно-то в старики меня произвела? Вот бороду да усы сниму, все рыло выскоблю — много моложе буду. Я в Питенбурхе-то, понимаешь, завсегда бритый ходил.
— Бороду снимешь, казакам не будешь люб, — возразила Устинья.
— Да уж это так… Пуще всего этого опасаюсь. А для ради тебя — готов, прилюбилась ты мне шибко, — сказал Пугачёв и подошел к Устинье, поцеловал её в губы и протянул ей медовый пряник. — Не плачь, кундюбочка моя, утри слезки.
— Где это слыхано, где это видано, чтоб у царя две жены было? — помедля, сказала Устинья и устремила пристальный взор в смущенное, с круто вздернутыми бровями лицо своего супруга. — Ведь ты имеешь государыню… И смех, и грех, вот те Христос!
— Какая она мне жена! — вскричал Пугачёв. — Она потаскуха! А меня с царства сверзила. Она злодейка мне!
— Не кричи столь громко-то, — тихо сказала Устинья. — А то внизу подумают, что бьешь меня… Так неужели тебе супругу-то свою прежнюю не жаль, Екатерину Алексеевну-то?
— А она меня жалела? Мне только Павлушу жаль, детище мое возлюбленное. Он, наследник-цесаревич, законный сын мой… А ей, коварнице, как только милостивый господь допустит в Питер, тем же часом голову срублю.
— Тебе допрежь голову-то срубят, — сказала Устинья, и на её щеках, покрытых еще не просохшими ручейками слез, заиграли улыбчивые ямочки. — Разве этакого допустят в Питер?
— Вот Оренбург возьму, до Питера дойду беспрепятственно…
— До Питера, поди, еще много городов.
— Мне бы только Оренбург взять, а достальные города сами ко мне преклонятся… Народ мой замаялся под изменницей жить. Меня, государя своего законного, ждут не дождутся все…
Снова наступило безмолвие. Сбивчивые, противоречивые мысли бросали Емельяна Ивановича в щемящий сердце сумрак. «Мне ли, темному, быть царем?
Да Россией-то, пожалуй, и самому Рейнсдорпу не управить. Дворяне, генералы, царедворцы, они — один хитрей другого… Да нешто всех переказнишь? А ведь от них вся канитель… И, пожалуй, верно говорит Устинья: «Тебя, мол, первого и казнят». Он гонит хмурые мысли прочь, он утомился. «Поспать бы да напоследок Устинью приголубить», — думает и надбавляет шагу. Но горенка не особенно просторна, и он движется, как в клетке волк. Вдруг наступил ногой на острую скорлупку, резко крикнул: «Ой!»
— Ой! — встряхнувшись, вскрикнула и задремавшая было Устинья. — Чтой-то ты, миленький, взгайкал так?..