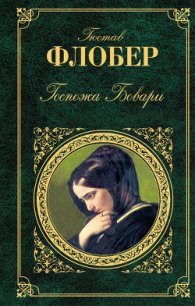Раквереский роман. Уход профессора Мартенса (Романы) - Кросс Яан (читаем книги онлайн без регистрации .txt) 📗
Главная новость, услышанная от жены сапожника, и весь ее разговор были таковы, что я забыл замести следы и чем-то объяснить свой приход. А она настолько была захвачена судьбой дочери, что только когда я уже собрался уходить, спросила:
— Так что у вас на сердце?
— Кое-какие вопросы по поводу работы, которую я сделал по желанию мастера и Розенмарка. — Потом, просто чтобы что-то сказать, я спросил: — Известно ли, когда мастер вернется?
— Бог даст, в начале будущей недели…
Коротко написать о том, что я испытывал после этого разговора, невозможно, а много — не хочется. Временами мне казалось, что откуда-то из неотвратимого серого пространства, наполненного бессмысленными мелочами, вдруг вскипает и начинает ощутимо приближаться волна разочарования, которая вот-вот зальет мне рот, глаза и задушит меня. И все же каждый раз она отливала, и я обнаруживал себя там, где она меня застала: в господском доме, перед черной школьной доской в классной комнате с Густавом и Бертрамом, латающими Пифагоровы штаны. Или вместе с мальчиками в Тоолсе, у моря, скачущим из-за таможни навстречу ветру и морским брызгам. Или в мансарде господского дома, лежащим на своем соломенном тюфяке, подложив под голову руки, локтями упираясь в штукатурку, и вдруг вскакивающим от вопроса: не бросить ли все, не помчаться ли в Таллин, прямо в дом Штёра?.. Но прошла неделя, вторая, а я оставался на месте. Удушливые волны накатывали реже, два-три раза в день напоминая о себе острыми уколами где-то между ребер. А некоторые встречи с Розенмарком, происшедшие за это время, в том числе сходка, о которой он говорил, не усугубили моего разочарования и ощущения, что я обманут, наверно даже как-то облегчили. Мне удалось увидеть в нем — отчего сердцу моему стало легче — только во вторую очередь победившего соперника, который отнял у меня мою любовь. В первую очередь я видел в нем мужчину, которому я наставил рога. Возможно, в охватившем меня отчаянии и подавленности не звучала бы так явственно злорадная нота, не будь она мне так настоятельно необходима, чтобы сгладить свое унижение. До сих пор богатству Розенмарка я внутренне противопоставлял свою относительную образованность, известный светский опыт. Но восхищение, от которого — по-моему, вопреки материнской заботе — дрожал голос мамаши Симсон, раздирало рану моего чувства неполноценности. Тем более что все то, от чего дрожал ее голос, было абсолютно реально, доступно осязаемо. Новый дом Розенмарка на Адской улице с пятью комнатами и двумя застекленными верандами должен быть готов к свадьбе хозяина. Начиналось строительство мельницы. Участки, примыкавшие к Скотной улице, — полторы тысячи квадратных локтей — существовали, и каждый раз, когда это огромное пространство пустующей земли показывалось между домов, я невольно поворачивал туда голову… Для нового дома новобрачных были будто бы заказаны столяру Зеннеборну обеденный стол на двенадцать персон и супружеская кровать и — о черт, какая ирония! — каретнику по фамилии Либе [26] — одноколка, чтобы ехать в церковь…
Что касается упомянутой выше сходки, то мы провели ее в середине сентября, в одну из пятниц, вечером, на квартире у Розенмарка. Семь сопевших мужчин. На столе кружки с пивом. Вязкие свиные шкварки, чтобы погрызть на закуску. Разговор начал трактирщик… Как известно, город уже второй год ждет ответа на свое большое прошение. Это недопустимо долгий срок. Но немецкая половина города согласна послушно ждать дальше и считает невозможным что бы то ни было предпринять. Поскольку прошение написано самой императрице и поскольку их мудрый Рихман сам отвез его в Петербург. При том, что для серых нынешнее положение в Раквере куда менее терпимо, чем для немцев. «Это почему?» — буркнул кто-то. «Будто ты сам не знаешь!» Да потому, что с немцами госпожа Тизенхаузен еще кое-как считается. Правда, она и немцев, городских граждан, объявила своими крестьянами. А все же только вольными крестьянами. Поначалу. Но не сошными, которых она своей волей могла бы драть, такими она их еще не объявила. А с серыми она все чаще поступает именно так. Кое-кто из сидящих здесь за столом испытал это на собственной шкуре. До сих пор серые воздерживались от решительных шагов. Почему? А потому, что одни надеялись на большое прошение, а другие говорили, что они просто не знают — немцам известно, а им, серым, неизвестно, какими правами пользовался город Раквере в старину и, следовательно, какие права были или есть у них самих. И это были совершенно справедливые слова. До сих пор. Ибо свои права нужно знать, чтобы на них опереться или требовать их обратно. И до сих пор они и правда были только на немецком и частично на латыни, и знали их только немцы. А теперь, глядите, вот этот молодой человек, которого все вы знаете, он переложил на местный язык и старые, и более новые права Раквере и хочет познакомить вас с некоторыми выдержками из них.
Что я и сделал, как сумел. Причем, когда я говорил, мне казалось, будто бы я стоял и позади себя, и стоял там как бы раздвоенный: одно мое «я», дрожа от страха, слушало взволнованные слова похожего на меня оратора, думая при этом: «Господи помилуй, каким же дьявольским образом мы вдруг дошли до того, что открыто говорим о том, за что наша госпожа, если только узнает, тут же отдаст нас под суд…» Но другое мое «я», позади меня, с интересом и удовольствием следило за гладким течением моих фраз, свысока поглядывая на толстого трактирщика, который старается внимательно слушать и иногда, будто от слишком яркого света, щурит глаза с рыжими ресницами — когда оратор за столом, не в силах справиться со своим мальчишеством, тщеславно пользуется такими совершенно непонятными словами, как usus fructus, sentimentum, allodium, и бог весть еще какими…
Вообще-то я старался, как только мог, говорить понятно. В таком духе: права городских граждан вечны и незыблемы, и все разговоры мызы о том, что города давно нет, искажение правды. Мне кажется, что присутствие Розенмарка и его будущего тестя придало моим словам безоглядный размах.
Однако самым неожиданным на том собрании было для меня одно наблюдение: мои слова не вызвали у раквереских серых, за исключением Розенмарка и, может быть, Симсона, заметного интереса. Хотя за тем столом наверняка сидели самые понятливые люди из городских серых. Трактирщик сказал мне, что Каарела Ламмаса, который весной попал в число «руководящих баранов», то есть зачинщиков тяжбы с мызой, и был среди высеченных розгами, он не считает достаточно смышленым, чтобы стоило позвать. Следовательно, те, кто присутствовал, были люди понимающие. Розенмарк, как хозяин, сидел во главе стола, Роледер справа от него, а Симсон слева. Рядом с Симсоном сидел я, и мне казалось даже смешным, что я там оказался.
Напротив меня ерзал тощий слесарь Тонн. Он еще перед собранием хлебнул за прилавком пива и сейчас нетерпеливо дергал свои рыжие усы. По правую руку от меня сидел подмастерье кузнеца Тепфер, человек с тяжелыми ручищами, блестевшим сине-красным лицом и выпученными глазами, — он выглядел так, будто был всегда хмельной, на самом же деле капли в рот не брал. Наискосок от Тонна, ближе к углу стола, но не напротив хозяина, не за вторым торцом, — должно быть, он сам понимал, что это место придало бы ему кое в чьих глазах несуществующее значение, — сидел, выпятив нижнюю губу, Яак из Калдаалусе. Я подумал: он сидит настолько обособленно от других, будто вопиющее причисление его к сошным крепостным, если и не нашло поддержки сидевших за столом жителей города, во всяком случае de facto ими признано…
Когда я начал говорить, Роледер раскурил трубку и окутал себя таким густым табачным дымом, будто хотел — как мне подумалось — защититься от предлагаемого мною Любекского права. Лишь трактирщик да два-три раза прочистивший горло папаша Симсон задавали мне вопросы. А Калдаалусский Яак молчал. И слесарь Тонн тоже был нем как рыба. Только когда я говорил им о том, что в конце шведского властвования государство мызу у Тизенхаузенов отняло, Тонн закрыл глаза и, странно гримасничая, произнес «Мммх-мммх» таким тоном, будто на банной полке ему почесали зудевший тощий живот. А когда я стал говорить о том, что тогда Тизенхаузен взял мызу у государства в аренду и устроил так, что город даже не узнал, что он больше не хозяин мызы, а лишь милостью короля ее арендатор, и проведал об этом совершенно случайно лишь семь или восемь лет спустя, Тонн опять фантастически сморщил узкое, как козий след, лицо и опять произнес свое «мммх», но на этот раз таким голосом, будто по его тощему телу проехал воз с тяжелыми жерновами.