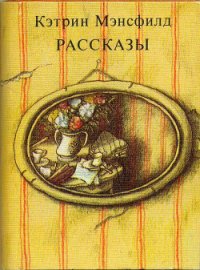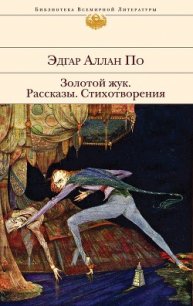Битва за Рим - Маккалоу Колин (читаем книги .txt) 📗
– Итак, Свин возвращается домой, – произнес Луций Корнелий Сулла, удостоверившись, что постылая вторая жена его не слышит.
Марий беспокойно шевельнулся на среднем ложе, хмурясь, но не столь зловеще, как прежде, когда паралич превращал левую половину его лица в посмертную маску.
– Какой ответ тебе хотелось бы услышать, Луций Корнелий? – спросил он наконец.
Сулла усмехнулся:
– Конечно честный. Впрочем, заметь, Гай Марий, в моих словах не содержалось вопроса.
– Понимаю. И тем не менее мне следует ответить.
– Верно. Позволь мне сформулировать ту же мысль иначе: каково твое отношение к тому, что Свин возвращается из изгнания?
– Что ж, я не склонен петь от радости, – ответил Марий, бросая на Суллу проницательный взгляд. – А ты?
Возлежащий на втором ложе Публий Рутилий Руф отметил про себя, что эти двое уже не так близки, как прежде. Три – да что там, даже два года тому назад! – они бы не беседовали с такой настороженностью. Что же произошло? И кто в этом виноват?
– И да и нет, Гай Марий. – Сулла заглянул в свой опустевший кубок. – Мне скучно! – признался он нехотя. – А с возвращением Свина в сенат можно ожидать занятных поворотов. Мне недостает вашей титанической борьбы.
– В таком случае тебя ждет разочарование, Луций Корнелий. Когда Свин вернется, меня в Риме не будет.
Сулла и Рутилий Руф разом приподнялись.
– Тебя не будет в Риме?! – переспросил Рутилий Руф срывающимся голосом.
– Именно, – подтвердил Марий и осклабился с мрачным удовлетворением. – Я как раз вспомнил обет, который дал Великой Матери перед тем, как разбил германцев: в случае победы я совершу паломничество в ее храм в Пессинунте.
– Гай Марий, ты не можешь этого сделать! – молвил Рутилий Руф.
– Могу, Публий Рутилий! И сделаю!
Сулла опрокинулся на спину, хохоча.
– О, тень Луция Гавия Стиха! – проговорил он.
– Кого-кого? – переспросил Рутилий Руф, неизменно готовый внимать слухам, чтобы потом их разболтать.
– Покойного племянника моей покойной мачехи, – объяснил Сулла, не переставая смеяться. – Много лет тому назад он перебрался в мой дом – тогда дом принадлежал моей ныне покойной мачехе. Он намеревался излечить Клитумну от привязанности ко мне, полагая, что сможет меня превзойти. Но я просто уехал – вообще уехал из Рима. В результате бороться стало не с кем. И очень скоро он превзошел самого себя, смертельно надоев Клитумне. – Сулла перевернулся на живот. – Через некоторое время после этого он скончался. – Голос Суллы звучал задумчиво; продолжая улыбаться, он издал театральный вздох. – Я разрушил все его планы!
– Что ж, будем надеяться, что возвращение Квинта Цецилия Метелла Нумидийского Свина окажется такой же пустой победой, – ответил Марий.
– За это я и пью, – сказал Сулла и выпил.
Вновь воцарилось молчание: былое единодушие исчезло, и тост Суллы не мог его возродить. Возможно, размышлял Публий Рутилий Руф, прежнее единодушие зиждилось на общих целях и боевом товариществе, а не на истинной, глубоко укоренившейся дружбе. Но как они могли забыть годы, проведенные в битвах с врагами родины? Как могли позволить домашней римской склоке затмить память о прошлом? Трибунат Сатурнина положил конец прежней жизни. Сатурнин, возжелавший сделаться правителем Рима, – удар, постигший Мария так не вовремя… Нет, все это чепуха, сказал Публий Рутилий Руф самому себе. Оба они – мужи, рожденные для великих дел, таким негоже сидеть дома, маясь от безделья. Случись война, которая потребует от них совместно взяться за оружие, или мятеж, раздуваемый новым Сатурнином, – и они заурчат на пару, словно довольные коты.
Конечно, время не стоит на месте. Ему, Руфу, как и Гаю Марию, уже под шестьдесят, Луцию Корнелию Сулле – сорок два. Не имея привычки разглядывать себя в зеркале, Публий Рутилий Руф не очень-то задумывался, как возраст сказался на нем, однако зрение его пока еще не подводило: сейчас он отлично видел обоих – и Гая Мария, и Луция Корнелия Суллу.
В последнее время Гай Марий несколько отяжелел, из-за этого даже пришлось заказать новые тоги. Впрочем, он всегда был крупным мужчиной, хотя и хорошо сложенным. Даже сейчас лишний вес равномерно распределялся по плечам, спине, бедрам и брюшку, вовсе не казавшемуся оплывшим; дополнительный груз не столько отягощал его, сколько разглаживал морщины на лице, которое стало теперь крупнее, округлее и значительнее, поскольку лоб сделался заметно выше из-за поредевших волос. И эти его знаменитые брови – кустистые, непокорные… Они всегда восхищали Публия Рутилия Руфа.
О, что за бурю священного ужаса вызывали брови Гая Мария в душах многочисленных скульпторов! Получив заказ на изготовление портрета Мария для какого-нибудь города, общины или просто незанятого пространства, куда просилась статуя, ваятели, жившие в Риме и в Италии, еще до встречи с Гаем Марием, уже знали, с чем им предстоит иметь дело. Но какой ужас отражался на лицах хваленых греков, выписанных из Афин или Александрии, стоило им узреть эти брови!.. И несмотря на все усилия мастеров, лицо Гая Мария, и не только на скульптурных, но и на живописных портретах, неизменно превращалось всего лишь в фон для его восхитительных бровей.
Как ни странно, самым лучшим портретом друга, какой доводилось видеть Рутилию Руфу, был грубый набросок, сделанный черной краской на внешней стене его, Рутилия Руфа, дома. Всего несколько линий: чувственный изгиб пухлой нижней губы, блеск глаз – как можно черным цветом передать блеск? – и не меньше дюжины штрихов на каждую бровь. Но Гай Марий был словно живой: горделивый, умный, упрямый, весь как на ладони. Вот только что это за искусство? «Vultum in peius fingere» – «с лицом искаженным»… [1] Когда искажение оборачивается правдой. Увы, прежде чем Рутилий Руф сообразил, как снять кусок штукатурки, не дав ему рассыпаться на тысячу кусочков, прошел ливень – и самого достоверного портрета Гая Мария не стало.
А вот с Луцием Корнелием Суллой этот номер бы не прошел, черно-белый набросок не передал бы его индивидуальности. Если бы не магия цвета, Сулла мало чем отличался бы от тысяч красавцев с правильными, истинно римскими чертами, о чем Гаю Марию не приходилось и мечтать. Портрет Суллы можно было бы написать только в красках. В сорок два года у него совершенно не поредели волосы – и что это были за волосы! Рыжие? Золотистые? Густая вьющаяся шевелюра – разве что длинновата. Глаза – словно горный ледник, светло-голубые, окаймленные синевой грозовой тучи. Сегодня его узкие изогнутые брови, как и длинные густые ресницы, имели темно-каштановый цвет. Однако Публию Рутилию Руфу доводилось лицезреть Суллу неготовым к приему посетителей, поэтому он знал, что тот их подкрасил сурьмой: на самом деле брови и ресницы Суллы были настолько светлыми, что вовсе потерялись бы, если бы не удивительно-белая, даже мертвенно-бледная кожа.
При виде Суллы женщины теряли благоразумие, добродетельность и всякое соображение. Они забывали осмотрительность, приводили в неистовство мужей, отцов и братьев, начинали бессвязно бормотать и хихикать – стоило ему бросить на них мимолетный взгляд. Какой способный, какой умный человек! Великий воин, непревзойденный администратор, муж несравненной храбрости; единственное, чего ему недостает, – так это умения организовать себя и других. И все же женщины – его погибель. Так, по крайней мере, думал Публий Рутилий Руф. Уж его-то внешность, приятная, но ничем не выдающаяся, и мышиный цвет волос никак не выделяли его среди множества других людей. Сулла не был ни развратником, ни коварным соблазнителем – во всяком случае, насколько было известно Рутилию Руфу, вел себя с похвальной сдержанностью. Но у человека с посредственной внешностью было больше шансов добраться до вершины римской политической лестницы: красавцы вызывали у соперников удвоенную зависть, не говоря уже о недоверии, а то и пренебрежении: мол, красавчики все неженки и мастера наставлять ближнему рога.