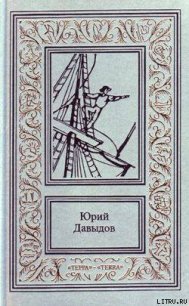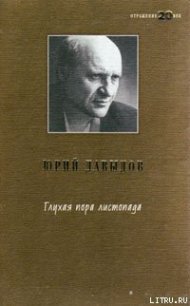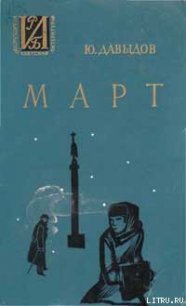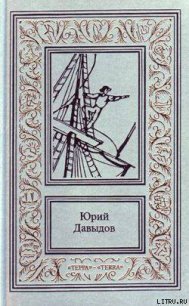Соломенная Сторожка (Две связки писем) - Давыдов Юрий Владимирович (книги онлайн полные txt) 📗
Он мог обойтись без Даниельсона и К0. Но тут возникала потребность в том, чтобы покорить и Даниельсона с компанией. Вот так же, как покорял он многих в артельных студенческих фатерах, в студенческой полуподвальной кухмистерской. Ему казалось, что они испытывают его волю. А это он сам испытывал свою волю. Ему необходимо было убедиться в ней.
Главное, однако, было в том, что они – лимоны. Нечаев примеривался к каждому в отдельности, искал веревочку, чтоб повязать. У него уже было письмецо, выхваченное из стола Даниельсона, когда хозяин на минуту вышел. Письмецо ставропольское: ссыльный Лопатин намекал, что готовится к побегу. Ну и что же? Все просто, господа, все очень просто: вы потеряли это письмо, Николай Францевич, да-с, потеряли, а мне известен тот, кто его нашел, и я могу выручить это письмецо, тем самым выручив и вас, и вашего ссыльного друга, а не выручу, уж не взыщите, не ровен час, попадет оное… Ну, да вы понимаете, Николай Францевич, вы ж понимаете.
Потом он еще кое-что изобрел в том же духе. Крапленые карты? Шулерство? Это по-вашему, по-барскому, либеральному, это для тех, кто в белых перчаточках. И ничего не будет худого, коли каждый из вас отведает тюремной похлебки. Напротив, господа, совсем напротив.
Он завел тетрадочку – заветную, заповедную. Давеча внес тезис: истинный революционер должен разорвать все родственные узы. А нынче при свете свечи влажными глазами читал сестрино письмо.
Милый Сережа! Наконец я решила написать тебе и писать письмо самое серьезное об нашем скверном положении и буду жаловаться на нашего батюшку. Они каждый день пьяны донельзя и совсем оставили дом наш, так что мы совсем их не видим, разве что придут домой на минутку и то не могут стоять на ногах и поднимают страшное ругательство. И постоянно играют в карты, проигрывают денег очень много. И скоро, кажется, доживем до того, что не будем иметь корки хлеба, хоть мы и работаем. Теперь нам нужно приготовить 6 р. каждый месяц на дрова; у нас в Иванове такая стоит холодная зима, что даже не припомнить такой зимы. Теперь осталось передать тебе, что мы находимся в очень затруднительном положении, прошу тебя, милый Сережа, пожалуйста, напиши папаше письмо, только посерьезнее, может быть, они тебя и постыдятся…
У нас в Иванове стоит холодная зима…
В селе Иванове, где мычанье коров перебивал посвист паровых машин, в селе Иванове Владимирской губернии, там он родился, там семнадцать годов отжил. Папаня поощрял сына к ученью. В мальчишестве лишился матери, дед с бабкой жалели сиротинку. Не угол ему отвели, а чистую горницу. И не дьячка-грамотея принаняли, а человека письменного – в столичных журналах подвизался.
Добряк учитель радовался: шустрый разумом этот хмурый скуластенький Нечаев Сережа, жаден к знанию, к лучам света в темном царстве. Быстр и упорен – чего же лучше? Ах, милый ты мой… Радовался добряк разночинец, да вдруг и недоумевал, терялся, когда Нечаев Сережа подавал ему сочиненья на вольную тему.
Экое странное пристрастие! Наклонность вовсе не детская. Н-да, поневоле заскребешь в затылке. Сюжеты, какие сюжеты выбирает: воришку-мазурика бьют городовые, усердно бьют и с удовольствием; купец изгаляется над приказчиком; на фабрике котел лопнул, мастеровой едва жив остался, а с него ж еще шесть гривен штрафу слупили, и тот выложил, лишь бы опять к работе приставили… Казалось бы, ликуй учитель: ученик твой не про пташек да буренушек пишет, нет, примечает ужас быта и мрак бытия, а тут уж и рукой подать до сознательного протеста. Ликуй?.. Нет, какое там ликованье, ежели в душе мальчугана ни трепета, ни сочувствия, ни даже наивного удивления перед тем, что творится вокруг.
Да он и сам, Нечаев Сережа, не умел объяснить своему учителю, отчего выбирает такие сюжеты. Не умел? А может, не хотел? Отвечал кратко: «Дураки все, вот и мучаются». Или так: «Дураков жалеть нечего». Учитель, головой качая, ласково толковал о великой исцеляющей силе милосердия, ученик слушал, пряча узкие глаза, казалось учителю, мелькала в тех глазах, похожих на лезвия, странная, опять же недетская усмешливость.
О, если б знал учитель, как Сережа написал однажды про высыхающих мальчиков. Нет, не знал. Никому не показывал Сережа вот это свое сочинение на вольную тему.
Были такие мальчики в селе Иванове, работали в урчащем аду фабричных сушилен, душных и влажных, с решетчатым полом и решетчатым потолком. Работали и исчезали, как и не жили на свете. О таких говорили: «Высыхают, и шабаш». Их неприметное, бесшумное исчезновение мучило Сережу, как иногда пугает и мучает детей мысль о смерти. И не мог Сережа ни полсловечка обронить о них своему учителю. Тут тайна была, он берег тайну, он сам должен был разрешить ее и знал это. А они ему снились, высыхающие мальчики. Будто певчие с полуоткрытыми ртами. Все в белом стояли в углах горницы или плавно плавали, наклоняясь к изголовью. И вот уж – не певчие, а белые свечечки оплывают, роняя белесые слезы.
Жажда знания томила Сергея. Он купил учебники. Хочешь стать народным учителем – сдай сперва за гимназию. В библиотеке для приказчиков плати гривенник и абонируйся. Там яркие настенные лампы и легкие стулья с плетеными сиденьями. Но книги… «Французские ерундисты», – презрительно отверг он Эжена Сю, Понсона дю Террайля, Поля де Кока. Библиотекарь обиженно повел носом: «А нашим конторщикам никакой Бокля не требуется. С ума спятят». Ладно, конторщикам не требуется, а вот ему… Он по случаю раздобыл «Историю цивилизации в Англии» этого самого Бокля. А в библиотечном чулане сдувал паутину с комплектов «Современника».
Папаня, однако, нуждался в помощничке. Папаня вывески малевал: для мясной лавки благодушную свиную харю, для магазина готового платья – вальяжного усача; черную с золотом для фабрики в пять этажей и щегольскую, в завитушках, – для каменного особняка, где окна задернуты штофными драпировками. А те вывески, что назывались «красными», присвоены были лишь портерным и трактирам.
Нечаев-младший досадовал: малеванье отнимало время. Но все ж то было ремесло. Ремесло и ремесленников он уважал. Ремесло и ремесленники, как его дед со своей красильней, противостояли Гарелиным и Зубковым с их фабриками. К уважению примешивались страх и горечь: окрестные фабрики пожирали дедов, как пожирали и окрестные леса, порошила гарь индустрии, грозя разореньем.
Сколь ни жаль было времени, отнятого от наук, Нечаев-младший помогал папане: кисти мыл и палитру, простые надписи делал, эти вот, которые без фигур, по трафарету, со шнурком, натертым мелом. А папане вдрут принадоела мазня-возня, хоть и брал не дурно – с квадратного аршина не меньше двух рублей. Нет, надоело! Был папаня скор на ногу, ухватист, остер на язык. Ловко носил фрак, натягивал белые нитяные перчатки, повязывал белый галстук: учредитель-распорядитель всяческих празднеств ивановских толстосумов. И сыну своему надел нитяные перчатки: физика-химия подождет, изволь лакейничать.
Прислуживая, ненавидел Сергей тех, кому прислуживал. Не потому лишь, что богаты. Потому, главное, что были они, как и папаня, из мужиков. Но из бедняцкого иль середнего ранжира выломились – вломились в разряд капиталистых. Свой брат мужик не был ни своим, ни братом. Плевал он и блевал на «историю цивилизации».
Высыхающие мальчики дышали в затылок. И тяжело-краеугольно ложилось такое, отчего учитель ужаснулся бы: чем хуже, тем лучше, думал худенький, скуластый юноша с глазами как лезвия. Пусть грабят хлеще, в хвост, в гриву, в бога и душу, взапуски, беспощадно, без роздыха. Чем хуже, тем лучше, ибо скорее и круче выхлестнет отчаяние высыхающих мальчиков. Грянут они в трубы, и будет солнце мрачным, как власяница.
На речке Уводи стояло фабричное село Иваново, русский Манчестер; далеко уводила речка Уводь – к последним временам.
Он осудил мир на крушение и возмездие. И ушел в этот осужденный мир. Высыхающие мальчики шли следом. Смутно белея, изготовились вострубить в семь труб.