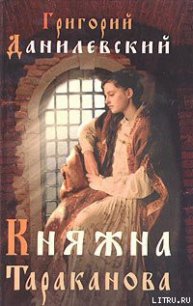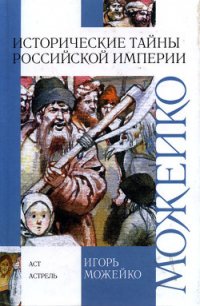Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин" (читать полную версию книги .TXT, .FB2) 📗
— Врёшь, ты обмишулить хочешь! — говорил детина, не давая ему схватить своей руки и направляя нож прямо против сердца.
— Эвона! Да что ты, невидаль, что ли, какая, аль золото везёшь?
— Золото не золото, а всё же...
— А я те покажу, где точно золото.
— Побожись!
— Вот те крест! Не лгу же, право!
Детина опустил нож, но стоял в оборонительной позе.
Мужик встал.
— Да полно петушиться-то! — сказал он. — Говорят, вместе попа ограбим!
Через минуту детина и мужик сидели на телеге рядом и говорили ладом. Детина правил, а мужик дорогу показывал. Дело шло к вечеру, и лошадёнка приставать начала; пора ей и отдых дать.
В ту же ночь в небогатом приходе Николы Сухого был зарезан священник со всем семейством, состоящим вместе с детьми из восьми душ и с работником Фомкой. Дом был ограблен дочиста, даже рубашки с убитых были сняты. Лошади, коровы уведены, козы и овцы тут же прирезаны и увезены. Видно было, что распоряжались не торопясь, на свободе; платье, рясы, шубы, бельё — всё было увезено с сундуками и ящиками. У священника всего много было: приход хоть и бедный, но жене после отца много досталось. Ни сторож, никто из причетников ничего не слыхали. Сторож с похмелья проснулся на церковной паперти в такое время, когда обедня уже отошла бы, если бы священник с перерезанным горлом мог её служить, и то проснулся потому, что собравшийся к дому священника народ его растолкал. Оказалось, что два какие-то проходимца ещё с вечера угощали сторожа вместе с Фомой в кабаке и что вышли они из кабака зело выпивши. Сторожу ничего. Фомка же за угощение головой заплатил. А проходимцы? Их и след простыл, хотя куда бы, кажется, им деваться тут, в степи, когда с колокольни вёрст, почитай, за сто кругом видно. А они с обозом, да ещё с каким обозом-то! Воза три, а не го и четыре всякого добра поповского навалили и увезли. Двух лошадей поповских увели, да, должно быть, и свои были.
И точно, мужик забирал и наваливал всякий хлам из поповского дома не только на поповских лошадей, но и на лошадь, взятую детиной у убитого казака. Валил он и сундуки, и перины, и самовар, и приколотых куриц, и всё, что на глаза попадалось.
— Что тут разбирать, дома разберёмся; а что ни есть, всё лучше пустова места! Торопиться же нечего. Тут, на селе, хоть домов-то и много кажется, а двух добрых мужиков не наберётся, чтобы нас остановить; а из деревень-то пока ещё узнают, пока соберутся, мы уж далеко будем.
Когда всё это снаряжал ражий мужик, детина стоял выпуча глаза, как угорелый. Не первый уже раз ему было видеть кровь. Старый казак, которого он вчера убил, была третья христианская душа на его совести. Но всё же он не видал ни крови столько, ни криков, ни страха. А теперь он сам за всех намаялся. Пьяного Фомку резнуть по горлу ему нипочём было; не пожалел он и попа, когда товарищ тоже его ножом в бок хватил и оставил на полу истекать кровью, и попадью, которую тот по голове кистенём дёрнул, когда она выть начала; но как-то тоскливо стало у него на сердце, когда мужик молодую девку — поповну — за косу с постели стащил и не сразу пришиб, а приволок к отцу, взял нож и как овцу зарезал; а дети в то время кричали, вопили, плакали; потом, когда он стал и с ними распоряжаться: грудного ребёнка головой о печку ударил, а подросткам пригрозил, чтобы молчали, и те по его слову разом смолкли, будто немые.
— Страшно! страшно! — сказал было детина, когда один из них при дошедшей до пего очереди проговорил:
— Я, дяденька, ничего... я так... я не плачу...
— Оставь! — сказал было детина, сжалившись.
— Что ты? Он всю деревню подымет! — спокойно отвечал мужик и, схватив за волосы ребёнка, наклонил к себе и всадил ему нож между плеч до самой грудной кости.
А тут с печи слезла седая старуха в одной рубашке; волосы космами сбились, костлявые руки дрожат, губы у неё как-то накось перевело, а глаза так и бегают. Не кричит старуха, не плачет, а будто ухмыляется, будто на драку лезть хочет и сморщенные кулаки показывает.
— Всех убил, проклятый, — прошамкала она, — всех? Ну и меня убей, убей! Проклятый!
— Не бойсь, не заставим просить! Вестимо, такую красавицу не упустим, черти давно на калачи ждут! — с усмешкой отвечал мужик. — Только о тебя, каргу старую, ножа пачкать жалко. Тебе на роду написано от верёвки умереть.
И он толкнул в грудь старуху; та полетела, а он взял вожжу, перехватил ею ноги старухи, перекинул вожжу через привальный брус палатей, проходящий поперёк избы, и, не говоря ни слова, вздёрнул её к потолку. Старуха захрипела, задрыгала ногами, замахала руками... но через десять минут всё было кончено, и старуха висела, словно замерзшая, вытянув руки вниз и высунув язык.
Детину всё это отуманило, и он смотрел кругом мутными глазами, пока не увидал, что мужик достал из голбца штоф водки и пирог. Он подошёл, выпил водки, закусил и оправился.
Мужик в это время сдвигал сундуки и звал его закладывать поповских лошадей, затем вывел коров и стал прирезывать овец, коз, куриц и гусей, пришибив, кстати, тут же и собаку.
— Куда ж мы со всем этим? — невольно спросил детина. — Мы и пяти вёрст не успеем уйти, как нас словят.
— Не бойсь, не словят! А Арефьевна-то на что? Ты не знаешь Арефьевны? Барыня важная Анфиса Арефьевна, золото-старушка! Она нас приголубит: напоит, накормит и в бане выпарит, да и помирит, пожалуй! У неё девка такая, чернавка, есть: сколько ни есть молодцов, всех угомонит, всех удовольствует! А трудовое что барыня всё как есть на чистые денежки купит.
— Ас обыском не придут к ней?
— К ней-то? Не бойсь, не придут. Она самому воеводе сродни приходится, да и дела свои ладно ведёт. Коли бы и пришли, то рази сегодня что, а назавтра ничего не найдут. За ночь-то всё спущено будет. В самый даже Бахмут свезут. Лови по задворкам! Что и говорить, барыня ловкая!
И точно. Вёрстах в десяти от села Николы Сухого хуторок такой был, обнесён высоким тыном, как крепость. На хуторке жила старушка барынька, Анфиса Арефьевна Плюшакова. Барыня, как говорил ражий мужик, важная, самому воеводе сродни и с чином немалым, чуть ли не капитаншей себя величала. Да такая была чистенькая, такая богомольная, что и сказать нельзя. Всегда, бывало, в чистом чепчике с длинными лопастями, подвязанными под самый подбородок большим бантом, в коричневом полушёлковом капоте и белом переднике, чтобы капот как не перепачкать, и всё, бывало, с чётками возится да «Боже, очисти меня, грешную!» твердит.
А какая она страннолюбивая была: кто хочет приезжай, всякому привет по душе, всякому угощение по силам. И какая была сердобольная: казак ли, мужик ли в деньгах нуждаются, и есть продать что, а до ближнего базара далеко везти, вёрст без малого сотня, так и везти незачем, старушка всё купит; что хочешь — вези к ней, место у неё всему найдётся.
Хуторок у неё стоял в балке, и не видно совсем, разве к самому подъедешь; балка эта дубовым и еловым лесом поросла. Кажись, тут только и был лес на всю ширину степи. Жила она крепко, всё на запоре. На хуторе жило у неё четверо работников, из крепостных, да силачи такие, что, кажись, и поповскому Фомке бы не уступили. А все соседи дивились, как это она живёт в таком глухом месте и не ограбят никогда. Да вот не грабили.
К этому-то хуторку и добрались молодой детина со своим новым товарищем ещё до света. Их приняли, за стол посадили, завтраком накормили, зелена вина поставили и баню затопить велели, куда девка-чернавка их свести должна была.
— Да что, матушка, Анфиса Арефьевна, — говорил мужик, низко кланяясь, как барыня к ним вышла, — больно уж дёшево давать изволите. Коровы этакие здоровенные, на поповское брюхо кормленные, а вы только по два рублёвика посулили. Слыхал ли кто: за корову 2 рубля, за овцу полтина, за гуся 10 копеек. Нонче, матушка и воробья за 10 копеек не купишь, вот что! А корова — два рубля? На рынке ведь такой коровы и за десять рублей не купишь! Сами посудите, совсем обидно!