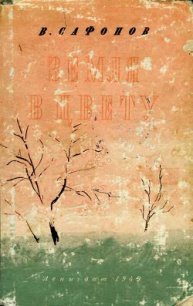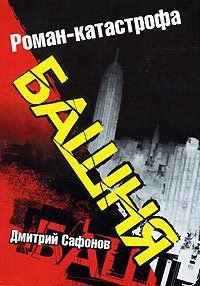Дорога на простор - Сафонов Вадим (книги онлайн полностью бесплатно .TXT) 📗
– Пропаду, бурмакан аркан, что за песню, что за слово… А поеду с тобой!
Подбежал Брязга, вытащил, потряс саблю, закричал хрипло:
– Мечи, что ль, ребята, не отточены? "Дунай" давай! Выдюжим! Лезовый кладенец, женка казачья…
Медленно поднялся бурлак в онучах и, поддергивая штаны, сказал:
– Нам что Кама, что Волга… – стариковали, значит, мы… старики те… дело-то привычное – потягнем… Спина, спаси господи, зажила, крепка-то спина, мать пресвятая богородица!
Пан не спешил, поглядывал, послушивал и трудную эту речь, и ребячьи выкрики кидавших шапки удальцов-атаманов, которых разобрало, взяло за живое, и пчелиный зум переменчивой, уже преданно покоренной толпы (а что нового узнала, чего не ведала полчаса, час назад? Соловьиное слово! Слово – и власть…). Поскреб в затылке, хитрая ухмылка скользнула в усы.
– Хлопцы, та и до дому можно. Только что ж вертаться, не пополудничав? С полдороги, да и коней назад? Эге ж, хлопцы, кажу! Як уж пойихали, так аж пид самисеньку пику.
Повел бровью:
– Коней-то расседлайте, кто заседлал.
Тогда Рваная Ноздря прошел к Ермаку.
– Я не скажу так красно, как ты. А ты погляди на меня. Хорош парень? Ты не нюхал каленого железа. А я в гроб с собой тот запах понесу. Не забуду, как клещи рвут тело… Куда ведешь? Русь подымается, холопство избывая. Вотчины палят. Бояре по дорогам проехать страшатся. Мужицкой недоле – вот он конец. Царство сулишь – не прельстишь. То мужицкое ли царство твое? Тута станем. Разметем полки воеводины. Все крестьянство будет к нам!..
Ермак не перебил его, только поднял глаза.
– А ты струпья мои считал?
Ответил Ермаку тихий Степанко Попов:
– Не пойдем, слышишь? Мужики не пойдут. В лесу утаимся. В пески зароемся. Нет – в омут головой.
Ермак двинулся из круга. Был радостен. С ним атаманы и есаулы. Но, будто вспомнив что-то, остановился и хмурым взглядом перебрал уже зашевелившуюся толпу. Тот жесткий взгляд нашел двоих: Бакаку и есаула Федора Чугуя, который требовал дувана.
Зеркальца, коробочки с румянами, бусы, обручи, подвески, сапожки, бисер, летники, шубки, – все она упихивала, уминала в укладки с расписными крышками. На полу солома, наспех увязанный узел с торчащим рукавом – горница походила на разоренное гнездо хлопотливой птицы.
– Улетаешь, Клавдя?
Клава порхнула мимо, дохнула в лицо Гавриле, засмеялась, принялась горой накидывать подушки, для чего-то взбивая их.
– Далече, не увидимся! – пропела она.
– К старикам на Суру?
Она взялась пальцами за края занавески и поклонилась.
– И то к старикам. Угадал, скажи! Строгановыми зовут, слышал?
– О! Значит, берет? Берет, Клава?
Тряхнула головой так, что раскрутилась и упала между круглых лопаток коса.
– Ты берешь! Ай не схочешь?
– Трубачам, ягодка, одна баба – труба. – И засветился улыбкой. – Значит… Эх, дурак, прощаться пришел!
Она приблизила к нему свои выпуклые глаза.
– А ты попроси ангела с небеси!
Он потупился. Рот ее покривился, стал большим. Она отскочила, начала срывать, мять вышивки – цветы с глазастыми лепестками и тех птиц, которые напоминали ее. Он смотрел остолбенело, силился и ничего не умел сказать, пока она не крикнула:
– Уходи! Федьку-рыбальчонка только и жалко…
– Клава…
– Уйди! – взвизгнула она и притопнула.
А следом за ним выбежала сама, придерживая рукой платок на голове, бросив дверь открытой.
Поздно вечером, в стане, вдруг вынырнула из осенней тьмы около Ильина, спросила:
– Когда плывете?
Дышала часто, неровно, нарисованная бровь казалась окостенелой.
– Завтра? Аль еще поживете?
Зашептала ластясь:
– Гаврюша, ты скажи… Он говорит – не к Строгановым.
Он отозвался тихо:
– Сама понимай…
– Знаю! Зимовать обреклись, казачок! – Отшатнулась, тьма смыла ее лицо, низким, грубым голосом закричала: – Как собаку?.. Со двора долой, ворота заколотить – околевай одна, собачонка? Кровь родную кидать? Федька чей? Его, Кольцов, Федька – до меня еще не знал? Волки-людоеды, лютые, косматые! Упыри! А! Собака – я! На дне речном след ваш вынюхаю!
Мелькнула белым, скрылась, – в ушах Гаврилы все стоял ее истошный, исступленный крик. На сердце было смутно. Он не услышал тяжелых шагов. Оробел, когда на голову ему легла рука.
– К тебе приходила?
Ермак не стал ждать ответа, кивнул:
– Волосню прикрой, студено.
И Гаврила покорно вытянул из-за пояса, надел шапку.
– Волгу жалко? – спросил атаман. – Десять годов гулял, а нагулял…
То, что комом сбилось в груди у Гаврилы, того не тронул он. Сказал, чтоб дать ответ атаману:
– В Михайловском курене богатеями стали…
Ермак насупился.
– В войске нет Михайловского куреня… Завидуешь? – И посоветовал: – А ты – не завидуй. Мои сундуки сочти – много ль сочтешь?..
Плеснет внизу – и опять тишь. Атаман грузно опустился на поваленный ствол, оперся о колено.
– Расскажи чего.
Гаврила помялся, проговорил:
– Ушли мужики-то. Где на кручи отбились. Иные в деревеньках на Усе… Ермак перебил:
– Не можешь рассказать. Играть на трубе горазд, а рассказать – нечего. Ляг поди. Не шалайся.
– Не спится…
Атаман не встал; была и у него, видно, одинокая долгая ночка. Вдруг сказал:
– Где приткнутся, там и присохнут. В обрат глядят. Отдирать – оно и больно. А ты вперед погляди…
– Чего же ищешь, батько? – тихо спросил Гаврила.
– Чего ищу, того не видал здесь. Старое кончать пора. Время за новое браться. Гулевую Волгу скрепил – всю и сниму отсюдова. Целехонькую – никто не порушит. Полымю тому в ином месте – разгореться дам…
Осенью, когда рыба ложилась в ямы на дне реки, ветер свистел в оголенных березах и только дубы стояли увешанные желтой листвой, – вольница снялась с привычных мест и ушла вверх по Волге, а затем свернула на Каму.
Они плыли последний раз по огромной и пустынной реке, встречая редкие, одинокие дымки на берегах – один утром, другой к вечеру. Но временами доносился стук плотничьих топоров, бугор был оголен от леса, грудой лежали срубленные деревья, на бугре вырастал бревенчатый тын: воеводы городили города.
Так проплыли Рыбную, Чертово городище, Алабугу, Сарапуль, Осу.
Всех плывших было пятьсот сорок. Вел их начальный атаман Ермак, и с ним атаманы – Иван Кольцо, Иван Гроза, Яков Михайлов, запорожец Никита Пан, Матвей Мещеряк из северных лесов и пятидесятник Богдан Брязга, Ермаков побратим.
Всадник взмахнул шляпой с белым пером.
– Вольга! Знаменитый река! Почему он Вольга, стольник?
Стольник Иван Мурашкин передразнил его:
– Вольга! Вольга! Эх ты, Вольга Святославич!..
Человек в шляпе с белым пером весьма обрадовался:
– Русски конт Вольга Свентославич на русски река Вольга! Я занесу это в мой журналь.
Но когда он проехал несколько шагов, ответ стольника показался ему обидным, он ударом кулака нахлобучил шляпу и внушительно произнес:
– Я слюжиль дожу в Венис и слюжиль крулю Ржечь Посполита, вот моя шпага слюжит крулю Жан.
Войско приближалось уже к Жигулям. Ратники иноземного строя грузно и старательно шагали в своем тяжелом одеянии. Следы казачьих станов были многочисленны, но ни живой души не было нигде.
– Смердят смерды, – с пренебрежением сказал Мурашкин: его конь ступал по битой винной посуде. Сам стольник потреблял только квас.
Всадник с пером не разделил негодования стольника.
– Bonum vinum cum sapore, – возразил он, – bibat abbas cum priore [13]. Русский человек пьет порох и водка и живет сто двадцать лет.
И он захохотал.
– Шпага капитан Поль-Пьер Беретт на весь земля прославляет великий руа Анри! А воровски казак, ви, стольник, должен понимать, есть замечательна арме. Один казак приводит один татарски раб в Москва и получает серебряну чашу, сорок зверь кунис, два платья и тридцать рубль. Мурашкин был озабочен. Оставалось неясным, как выполнит он свою задачу – одним ударом уничтожить не в меру размножившиеся разбойничьи ватаги, срезать ту опухоль, которая закупоривала становую жилу рождающейся великой Руси, волжскую дорогу – путь на беспредельный восток, путь на сказочно богатый юг, тот путь, который открыли и сделали русским казанская и астраханская победы царя. И Мурашкин не считал себя обязанным выслушивать болтовню этого попрыгунчика, – довольно того, что, по воле государя, приходилось терпеть его, похожего на цаплю, около себя.
13
доброе пенное вино пьет аббат с приором (лат.)