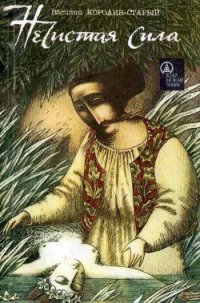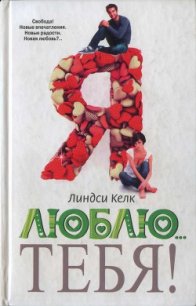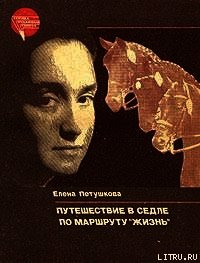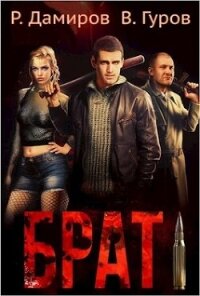Бурсак в седле - Поволяев Валерий Дмитриевич (читаем книги онлайн .txt, .fb2) 📗
А если это оптический обман?
Тогда китайцу будет достаточно сделать один выстрел, чтобы превратить в дырявую тыкву голову Калмыкова. Стоит только подъесаулу произвести с этой позиции хотя бы один выстрел, как хунхуз его засечет. Калмыков перевел взгляд на убитого китайца, потом на остатки костра, прошелся глазами по поваленным стволам.
Ничто не выдавало хунхуза, словно бы он тут и не находился. Но он находился здесь, здесь… Калмыков снова медленно обвел глазами противоположную сторону пади.
Он не думал, что охота эта окажется такой затяжной, рассчитывал разделаться с китайцами быстро, в один присест, но получилось то, что получилось… Невесть что, одним словом, охота, в которой охотник неожиданно начинал играть роль дичи.
Небо малость потемнело и — вот удивительно, — пошло в зелень, словно бы в нем отразилась, как в зеркале, вся уссурийская тайга, и отсвет этот неземной, непривычный, родил в Калмыкове беспокойство.
А что, если охота, которую он затеял, окончится не по его сценарию, а по сценарию оставшегося целым и живым китайца? Калмыков, давя в себе остатки неуверенности, усмехнулся, через силу раздвинул губы — не может этого быть.
Не должно так быть, это не по правилам. Но человек предполагает, а Бог располагает…
И все-таки Калмыков верил в свою удачу.
Неожиданно он увидел чуть правее прорехи, метрах примерно в полутора, короткий металлический просверк. Тусклый, очень короткий. Как шажок воробья.
Так мог сверкнуть только ствол винтовки: зло, стремительно, предупреждающе. Калмыков поспешно вжался в землю — казалось, что китаец заметил его и уже нажал на спусковой крючок своего штуцера.
Но выстрела не последовало. Калмыков перевел дыхание и, сощурившись, вгляделся в место, где он засек металлический блеск, но ничего, кроме кучи травы, не обнаружил!
Стоп! А ведь этой кучи травы раньше тут не было. Она ведь углом топорщилась в прорехе, мешала рассмотреть, что там, а теперь самым таинственным образом переместилась в другое место. Что бы это значило?
Вот ходя и попался. Калмыков ощутил облегчение. Тяжесть, сдавливавшая ему плечи, мешавшая дышать, ослабла.
Он взял кучу травы на мушку, но стрелять пока не стрелял, медлил: а вдруг эта цель — ложная? Надо было убедиться, что хунхуз укрылся за этой зеленой горкой, сидит там, пупком с землею сросся, также ждет не дождется, когда ламоза сделает ошибки и подставится…
Калмыков сложил пальцы в фигу:
— Подставится? Вот тебе! — Он легонько повертел фигой перед собой, потом ткнул ею в пространство: — Вот!
Дышать вновь сделалось трудно — видно, в природе что-то менялось, одно состояние уступало место другому; вполне возможно, сюда полз дождь с низким, тяжелым, будто навесной потолок небом и пузатыми облаками; с дождем установится прохлада, в которой можно будет хотя бы немного отдышаться…. Отдышаться, конечно, можно будет, но вот комар станет лютовать сильнее. Он и сейчас не промахивается. Если присосется, то вытягивает половину крови из всякого живого организма, воет так, что у человека глаза сами по себе закатываются под лоб от страха.
Над правой бровью, под козырьком фуражки, у Калмыкова сидел комар и наливался кровью нагло и беззастенчиво.
Неожиданно зеленая горка шевельнулась, стронулась с места и тут же замерла. Калмыков коротким движением затвора загнал в ствол патрон, подвел черную, для ясности подкопченную мушку под основание зеленой горки, втянул в себя сквозь зубы воздух, затих.
Травяная куча была неподвижна. Калмыков выждал еще несколько секунд и нажал на спусковой крючок карабина. Сразу же после выстрела, оглушившего его, — в голове поплыл звон, а перед глазами заплясали крохотные электрические блохи, — передернул затвор, загнал в казенную часть новый патрон, чуть сдвинул ствол в сторону и вновь надавил пальцем на спусковой крючок. Грохнул второй выстрел, такой же оглушающий, как и первый.
С рычанием выбив из себя воздух, заводясь, Калмыков загнал в ствол третий патрон — он не должен был оставить китайцу ни одного шанса. Ежели оставить хотя бы один шанс и ходя уцелеет, то Калмыкову придется плохо — ходя добьет русского, не промахнется. Это подъесаул понимал хорошо. Он с ожесточением надавил пальцем на спусковую собачку в третий раз, подхватил карабин и стремительно откатился в сторону.
Было тихо. Так тихо, что звон, засевший в голове, казался таким оглушающим, что Калмыков невольно поморщился, словно от боли. Втиснулся под куст, глянул между ветками: что же там, в пади, творится?
Падь была неподвижна, дыры, проделанные пулями и плотном стоячем воздухе, как в некой материи, не затягивались, остро пахло порохом.
Калмыков вгляделся в прореху, в которую стрелял: а там что? Протер глаза — не блазнится ли чего? Или… Или все-таки что-то мерещится? А? В темной глубокой прорехе виднелось человеческое лицо. Человек лежал на боку, открыв рот и изумленно распахнув глаза. Это был китаец: подъесаул уложил его наповал.
Выждав еще несколько минут, Калмыков неторопливо поднялся и, прикрываясь кустами, двинулся в обход пади, не спуская глаз с того места, где лежали убитые китайцы.
Сердце билось учащенно, толкалось в виски, трепыхалось в затылке, по лбу струился пот, капал в усы, и подъесаул ожесточенно сдувал его. Чувствовал он себя устало, размято, словно выжатый лимон, — и текло с него все время, текло непрерывно… Пот заливал глаза, соскальзывал на щеки, на подбородок, противно шевелился в усах, и это раздражало Калмыкова.
Карабин он держал наготове, палец словно бы прирос к спусковому крючку; всякое шевеление около потухшего костра он успел бы пресечь огнем, но у пепла, чадившего холодной сизой пылью, никто не шевелился — живых не было, Калмыков уложил всех.
Он приблизился к костру, остановился метрах в семи от него. Один из китайцев лежал, выкинув перед собой обе руки, словно бы защищаясь от неведомого стрелка и глядя на Калмыкова широко открытыми, налитыми ужасом глазами. Лицо его было густо облеплено мухами.
Этот был готов — никогда уже не сможет взять в руки винтовку и опасности от него было не больше, чем от мух, сидевших на желтой плоской физиономии. Калмыков перевел взгляд на второго убитого — в открытый рот того проворно втягивал свое жирное влажное тело какой-то червяк, похожий на крупную пиявку.
Этому хунхузу также уже не до стрельбы — отстрелялся. У Калмыкова сами по себе дернулись уголки рта, оба разом, а следом заскакали, прыгая вверх-вниз, усы.
Через несколько секунд он нашел третьего китайца — также отстрелялся ходя, пакостить в уссурийской тайге больше не будет — все, отпакостился! Это был хунхуз, которого он застрелил последним, самый опытный, самый хитрый. Две пули в него все же попали, третья прошла мимо.
Калмыков опустил ствол карабина.
Четвертого китайца можно было не искать — он лежал, всадившись головой в костер и разбрызгав в разные стороны пепел, криворотый, страшный, с черным от костерной гари лицом.
Калмыков остановил на нем равнодушный взгляд всего на одно мгновение, потом пошарил глазами по пространству — а где же птичьи тушки, которые коптили китайцы?
Одна из тушек лежала в стороне от костра, испачканная золой, серая, но все равно такая аппетитная. Калмыков сглотнул слюну и, сделав несколько неровных шагов, поднял ее с земли. Рукавом стер золу. Понюхал. Тушка была фазанья — самое то, что по зубам русскому человеку, не ворона какая-нибудь вонючая, изъеденная червяками, а благородный фазан. Калмыков сглотнул слюну и впился зубами в мягкий фазаний бок.
Калмыков поспел вовремя. Задержись он на какие-нибудь пятнадцать минут, китайцы съели бы добычу: мясо, поджаренное на медленном огне, было в самый раз — нежное, мягкое, оно уже поспело…
Подъесаул впивался в него зубами, быстро, азартно разжевывал, кости бросал себе под ноги. Иногда равнодушно косил глазами в сторону убитых китайцев и стирал ладонью жир на губах.
Китайцев следовало бы похоронить, вырыть для них общую могилу и закидать яму землей, сверху придавить поваленной пихтой, но он делать этого не будет. В конце концов, тела все равно растащат по частям волки и медведи, объедят кости, мелкое зверье закончит трапезу, даже кабан, и тот не преминет полакомиться человечиной, так засыпай землей убитых, не засыпай — звери все равно до них доберутся.