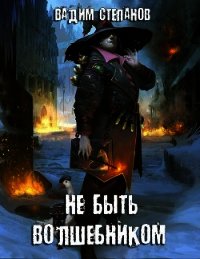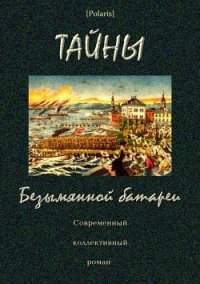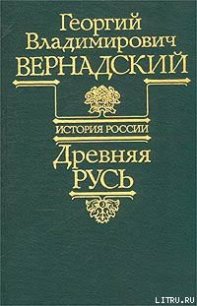Закат в крови (Роман) - Степанов Георгий Владимирович (читать полные книги онлайн бесплатно TXT) 📗
Глава тридцать пятая
Окончилась демонстрация фильма, и почти тотчас же перед белым полотном экрана, ярко озаренным конусообразным светом, появилась фигура в костюме Пьеро.
Офицеры, заполнявшие ряды партера, неистово захлопали в ладоши.
Вертинский-Пьеро начал посылать воздушные поцелуи в рукоплещущий зал.
Плоскогрудая дама с полуседыми волосами, уложенными в высокую прическу, решительно ударила по клавишам рояля.
Шум рукоплесканий оборвался.
Вертинский взмахнул широкими рукавами кофты и простер вперед руки. Раздались первые звуки романса:
Вертинский не пел, а лишь под аккомпанемент рояля медленно и негромко выговаривал слова. Вытянув руки и выразительно шевеля длинными, гибкими пальцами, как бы настойчиво и тонко ткал сеть глубокой скорби, нити которой незримо тянулись в громаду зала, тонущего в полумраке.
Он пел романс за романсом из того своего репертуара, который сложился еще задолго до революции, и тем самым переносил в безвозвратную пору давно минувшего, невольно воскрешая в памяти грустно милую безмятежность предвоенных лет. Слова романсов, безукоризненно произносимые устами Пьеро, вдруг становились как бы слезами о том, что было и уже никогда не будет. Вся прошлая жизнь, будто собранная в некий кристалл, теперь звучала в мелодиях и каждой фразе.
Потом Вертинский-Пьеро с величайшей грустью запел о том, как вместе с какой-то женщиной на похоронах «целовал мальчиков в посиневшие губы», как забрасывали «ямки могил грязью», с неотвратимым упреком твердил:
Ивлеву вдруг стало так нестерпимо больно, что он, удерживая слезы, закрыл глаза. Он опять вспомнил юнкеров, обреченно паливших в тех, кто был их сильнее…
Пропев последние слова, Вертинский раскинул в стороны длинные руки и, как крест, неподвижно стоял перед незримой могилой…
Наконец в зале вспыхнул свет. Наваждение сумеречно-похоронных песнопений рассеялось. Публика в каком-то отчаянном исступлении зааплодировала. Молодые офицеры-корниловцы ринулись к подмосткам и под шум, грохот неистовых рукоплесканий подняли на руки Вертинского. Держа, как нечто необыкновенно хрупкое и драгоценное, буквально на одних кончиках пальцев, они бережно понесли его через зал… Куда? Вероятно, в ближайший кабак, чтобы там вместе с Пьеро, ставшим певцом их обреченности, утопить жуткое сознание неизбежного краха в спирте и бесшабашном разгуле…
Ивлев пришел домой внутренне совсем раздавленным, в мастерской аккуратно развесил на стене полотно «Юнкера стоят насмерть» и, достав из кладовой четвертную бутыль терпкого, выдержанного рислинга, припасенного Сергеем Сергеевичем «про черный день», тяжело опустился за стол.
Белое движение обратилось в гигантскую мистификацию. Оно много обещало и мало содержало. Все рухнуло, даже основа и почва. Под ногами ничего. Может быть, все в жизни, как в большом, так и малом, сплошной обман. Счастье постоянно находится или в безвозвратном прошлом, или недостижимом будущем. Сейчас же, когда будущее безнадежно черно, все устремления бесплодны. А прежние утраты, борьба, жертвы ничем не окупимы. Как же при всем этом тянуть нить жизни? Ведь она в конце концов заставит нести кару за всех тех, кто обратил армию в сброд тифозных больных и духовных калек, опустошенных, обанкротившихся, разуверившихся во всем, утративших способность сражаться…
Тупо, остервенело он пил вино стакан за стаканом и безотрывно смотрел на тонкие, сиротливые в своей обреченности фигуры юнкеров.
Вино в бутыли быстро убывало, но вместо забвения росло угрюмое озлобление.
Пришла ночь.
Ивлев не зажигал электричества, сидел в кромешной тьме с помутившейся головой.
Наконец выпив последний стакан рислинга, достал из кармана и положил возле порожней бутыли браунинг.
Хотелось сразу же поднести дуло револьвера к виску, нажать на гашетку, но в ту минуту, когда рука легла на браунинг, пришла мысль о Шемякине… Кто же выручит его? Кто спасет «Штурм Зимнего»?
Посполитаки, если не принять чрезвычайных мер, уничтожит и картину, и художника. Ни русский талант, ни русский человек беспощадному изуверу не дороги. А Шемякин, что бы ни было, явление громадное! И почем знать, быть может, при большевиках, поскольку он стал коммунистом, ему найдется место под солнцем. Ведь Леонид Иванович жив.
Ивлев отодвинул браунинг от бутыли, и вдруг безразличие к жизни, неодолимо тянувшее покончить разом со всем, сменилось состоянием, близким к необоримому опьянению. Все тело налилось свинцовой тяжестью. Захотелось спать. Ивлев оперся локтями на стол, голова свесилась долу, наполнилась нестройными ошеломляющими звуками. Глаза слиплись, и он внезапно провалился в эластичную, мягкую, спасительную тишину…
Глава тридцать шестая
Рано утром он пробудился от какого-то настойчивого и быстрого стука в парадные двери. Но не сразу удалось разогнуть спину, онемевшую в пояснице от того неудобного положения, в котором уснул, сидя у стола. Однако упорно продолжавшийся стук заставил выпрямиться и встать.
За дверьми парадного оказался Ковалевский.
— Ну и спишь, чертушка! — выругался он, сутулясь и горбясь. — Хоть из пушки стреляй. Полчаса стучался. А сам едва на ногах держусь. Я прямо с вокзала. Целую неделю добирался из Ростова. Дьявольски простыл, а то, может, и того хуже — схватил сыпняк. Всего меня корежит.
В самом деле, Ковалевский весь трясся, и лицо его, болезненно отекшее и осунувшееся, было землисто-зеленым.
— Ну так заходи, передохнешь у меня! — Ивлев взял больного за локоть.
— Нет, нет, — уперся Ковалевский. — Если зайду в дом, то уже не выйду. Надо скорей и во что бы то ни стало добраться до квартиры матери. Одна она сумеет выходить меня… Вот, тебе привез, бери…
Ковалевский трясущейся рукой из-за полы страшно потрепанной шинели вытащил и протянул серый, со сломанными углами, склеенный из грубой оберточной бумаги конверт. На нем синими чернилами было написано:
«Гор. Екатеринодар, ул. Штабная, дом № 17/1, Ивлеву Алексею Сергеевичу».
Ивлев мгновенно узнал тонкий, стремительный почерк Глаши и прижал конверт к груди.
— Непременно постарайся сегодня же ответить ей, — сказал Ковалевский. — Она человек великого сердца. Это благодаря ей я отпущен. Передай мой поклон. Я пошел. Прощай…
— Разреши проводить тебя. — Ивлев было двинулся за Ковалевским, но тот самым решительным жестом отмахнулся от него.
— Не надо. Сам добреду быстрей. До дома матери осталось всего полквартала. Иди читать письмо. И одно скажу напоследок! Послушайся Глашу, не убегай, дождись ее прихода!
Едва Ковалевский скрылся за калиткой, как Ивлев дрожащими от волнения пальцами вскрыл конверт и, захлопнув двери на французский замок, жадно набросился на дорогие, милые строки из прямых крупных букв Глаши.
«Дорогой Алексей!»
Это простое дружеское обращение он дважды кряду перечитал, еще находясь в полутемной прихожей. А потом, войдя в светлую мастерскую, — в третий раз и в порыве радости прижал письмо к губам.