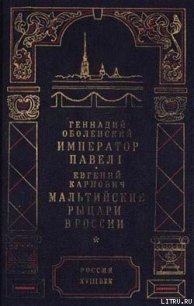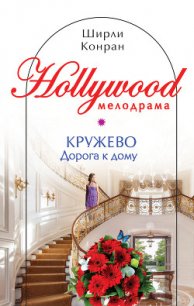Придворное кружево - Карнович Евгений Петрович (лучшие книги читать онлайн txt) 📗
– Не понимаю я твоих речей, князь Александр Данилович, – сказала Анна Ивановна.
– Хочу я сказать, чтобы вы, бабы, в дрязги мешаться не изволили. Крепко уже они надоели мне.
Если сетования на свою горемычность, составлявшие общий припев русских женщин того времени и в крестьянской избе, и в хоромах, как в боярских, так и царских, были по привычному чувству искренни, а отчасти и справедливы со стороны герцогини Курляндской и если просьба ее о Морице была еще искреннее, то покорность ее пред Меншиковым была только притворством. Анна Ивановна вовсе не думала окончательно уступать ему и надеялась повернуть в Петербурге вопрос о герцогстве Курляндском в пользу своего возлюбленного.
Образ ее действий в Петербурге совершенно противоречил тому заискивавшему смирению, какое она в конце своих переговоров с Меншиковым выразила перед ним. С своей стороны, Меншиков поспешил передать в Петербург подробности о свидании своем с герцогиней в письме, которое указывает властное обращение Меншикова с герцогиней и приниженность ее перед могучим временщиком.
XIII
– Нет, господа! – смело и задорно говорил Мориц на рыцарском ландтаге собравшимся в Митаве курляндским дворянам. – Вы ни в каком случае не должны поддаваться России и предпочесть князя Меншикова, чуждого вам и по происхождению, и по языку, и по вере, избранному вами герцогу, который готов сложить голову в битвах за права и честь вашей родины.
Громкие одобрительные отклики были ответом на пылкую речь Морица.
– Мы сумеем постоять за себя и за нашего возлюбленного герцога! – голосили дворяне.
– Тем более что и Польша поддержит нас, – поддакивали сторонники Морица.
Немки были в восхищении от Морица и с своей стороны, как умели, возбуждали в пользу его чувства преданности и отваги в своих мужьях, отцах и братьях и в тех молодых людях, которые были неравнодушны – один к Луизе, другой к Марте, третий к Мине и так далее. Короче, у Морица составилась такая сильная партия в самой Курляндии, что Меншикову трудно было бороться с ним. Все были против князя, все готовы были стоять за графа Саксонского, умевшего воодушевлять мужчин и прельщать женщин.
В Петербурге герцогиня была на этот раз принята так, как ее обыкновенно там принимали. Императрица встретила ее вежливо, но сухо. Никто из придворных сановников не спешил засвидетельствовать ей чувство уважения и преданности, так как никто еще не предчувствовал в ту пору, что через три с небольшим года бывшая в загоне герцогиня Курляндская сделается самовластною повелительницею России. Пока ей еще самой приходилось отыскивать покровительство у тех, кто имел значение при дворе.
Перебирая в мыслях подходящих к тому лиц, она прежде всего остановилась на Левенвольде.
«Хотя, – думала она, – он и не в прежней милости, но не мешает попытаться: авось он, как немец, возьмется горячо за дело своих земляков. А царица ему в этом случае поверит более, чем кому-нибудь другому, так как ей известно, что Левенвольд знает отлично тамошние дела и что он хотя человек и пустой, зато честный и бескорыстный и обманывать ее не станет».
При этих соображениях встретилось, однако, для герцогини особое затруднение. Нельзя было ей не заговорить прежде всего о Морице, а ей очень не хотелось выдать свою сердечную тайну Левенвольду, с которым она не была близка.
– Точно, что это будет не под стать, – заметила княгиня Аграфена Петровна Волконская, с которой тотчас же по своем приезде увиделась герцогиня, привезшая из Митавы письмо от ее отца. – Да это, впрочем, легко обойти; можно, ваша светлость, повести дело через Наталью Лопухину: ведь кто же не знает в Петербурге, что Левенвольд к ней самый близкий человек. Да пусть она и не говорит, что вам угодно выйти замуж за графа, а как будто от себя скажет, что хорошо бы было уладить дело таким способом. Да и, кроме того, Левенвольд большой приятель Остермана, а Меншикову великий недруг, так Левенвольд легко может подбить и этого немца, а он прехитрая лиса и уж сумеет навредить «светлейшему» так или иначе.
Анна Ивановна охотно согласилась на предложение своей приятельницы, которая и повела ее дело через Лопухину. Через несколько дней императрица, подготовленная откровенною беседою с Левенвольдом и намеками Остермана, уже не без тревожного чувства стала подумывать о тех последствиях, какие могут повлечь за собою самовластные действия Меншикова в Курляндии. Не сидела смирно и княгиня Марфа Петровна. Она через своего мужа снеслась с его близким родственником, Василием Лукичом Долгоруковым, состоявшим русским послом в Варшаве. Долгоруков, узнав из этого письма, что императрица недовольна поездкою Меншикова в Митаву, поспешил в своем донесении из Варшавы подделаться под смысл сообщенных ему известий и писал, что попытка России упрочить как бы то ни было свое влияние в Курляндии неизбежно повлечет к разрыву с Польшей. Осторожный дипломат, разумеется, не только не затрагивал с неодобрительной точки зрения действий Меншикова, но, напротив, лично выказывал ему сочувствие и находил, что «светлейший» был бы превосходным правителем, что передача ему герцогской короны соответствовала бы видам России и что ему со стороны последней следовало бы отдать решительное предпочтение перед всеми другими кандидатами. «Но, невзирая на сие, – писал Долгоруков, – я, по рабской моей должности, обязан довести до слуха всемилостивейшей государыни и о том „шагрине“, какой производится в Польше слухами о делах курляндских, и о порождающейся вследствие того ажитации и предуведомить, что такой ход дел угрожает великими неприятностями российскому кабинету».
Противники Меншикова видели, что хотя расположение императрицы к нему уже и поколеблено, но что все-таки направленных против временщика сил еще недостаточно для нанесения ему решительного удара, и потому положили воспользоваться еще особою подмогою. Княгиня Марфа Петровна, близкая, как дочь Шафирова, ко двору Елизаветы и бывшая в тесной дружбе с госпожою Рамо, компаньонкой цесаревны, взялась за это.
– Какой герой граф Мориц Саксонский! – заговорила однажды госпожа Рамо в присутствии Елизаветы. – Когда он был во Франции, все француженки сходили от него с ума, военные его боготворили. Под французскими знаменами он оказывал чудеса храбрости, а кто не знает, что во Франции каждый простой солдат – герой! – увлекалась патриотическим чувством француженка. – А между тем граф Мориц выдался даже и среди них! Он – образец мужественной красоты, беспредельной храбрости, очаровательного изящества и утонченной вежливости. Ах, как жаль его: он наверно погибнет в Курляндии, князь Меншиков убьет его! – вскрикнула в заключение госпожа Рамо, закрыв в ужасе глаза руками, как будто избегая смотреть на то кровавое зрелище, которое представлялось ее воображению.
Возгласы, наводящие на слушателей и сострадание, и ужас, были госпоже Рамо в привычку, так как она до приезда в Россию играла в Париже на драматической сцене, где раздирающие душу вскрикивания были тогда в большом ходу.
Семнадцатилетняя цесаревна, пылкая сердцем, слушала внимательно рассказ своей собеседницы о несчастном и достойном любви женщин Морице. Отзывы о нем со стороны француженки смешивались в воображении девушки с слышанными ею в детстве русскими сказками о красавцах царевичах, заезжавших на Русь за невестами из-за далеких синих морей, из неведомых стран, и Елизавета влюбилась заочно в Морица, как была она влюблена таким же способом в короля французского Людовика XV.
Госпожа Рамо несколько раз потом заговаривала с цесаревной о Морице.
– Как жаль, – тараторила она, – что он не приедет в Петербург!.. Как бы хотелось мне еще раз взглянуть на него. Я просто влюбилась в него, когда увидела его в первый раз в театре в Париже, хотя, – добавила тоскливым голосом Рамо, – я без ума любила моего бедного покойного. Бедный, милый Альфред!.. Он умер в цвете лет!.. О, как тяжела была для меня его потеря!
Затронутая болтовней своей компаньонки, Елизавета сперва стыдливо и робко принималась расспрашивать ее о Морице и, разумеется, в ответ на это слышала каждый раз самые восторженные о нем похвалы, которые все более и более затрагивали ее нежные чувства.