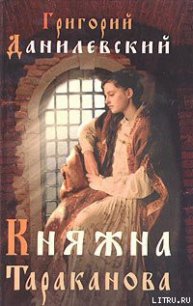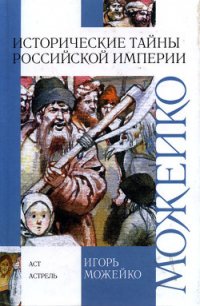Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин" (читать полную версию книги .TXT, .FB2) 📗
— Я требую, чтобы вы держали себя прилично, как Бог и добрые люди требуют от замужней женщины; чтобы с князем Иваном Алексеевичем вы виделись только при всех. Я прошу это настойчиво, княгиня. Если вам не угодно будет меня послушать, делать нечего, я должен буду принять свои меры, поговорить с вашим батюшкой, и...
— А! — протянула только княгиня и ушла к себе, не сказав ни слова и запирая за собой двери.
Но, возвратясь из сената, Никита Юрьевич опять нашёл у себя князя Ивана Алексеевича Долгорукова.
Он лежал преспокойно на диване, перед ним на столике стояла пустая бутылка и недопитый стакан красного вина.
— А, приятель, — закричал князь Иван Алексеевич, приподнимаясь на диване, когда увидал входящего Трубецкого, — я тебя-то и жду! Что ты там болтал сегодня жене, чем стращал её там? Знай, что если ты хоть словом её огорчишь, тем более если хоть слово скажешь этому старому хрычу, её отцу, то тебе — Якутск, соболей ловить, после приятного разговора с Андреем Ивановичем в застенке! В этом тебе честное слово Долгорукова. Слышал?
Трубецкой совершенно оторопел от такого приветствия. Через минуту, однако ж, он сказал как-то механически:
— Помилуйте, князь, какое вам дело до моей жены?
— Как какое дело? Дурак, братец! Она моя любовница, стало быть, дело есть! А чтобы ты знал, что это правда и мне мешать не смел, я докажу. Эй, Настя! — закричал Долгоруков во всё горло. — Настя, иди сюда!
— Что прикажешь, друг мой? — ласково спросила княгиня Настасья Гавриловна, показываясь в дверях гостиной.
— Вот надо уверить твоего олуха-мужа, что ты меня любишь, что ты и я — один человек. Поцелуй меня при нём! Ведь ты меня любишь?
— Люблю, мой друг, а его терпеть не могу! Это я сказала ему ещё до свадьбы, хоть тебя не назвала; просила его отказаться, он не захотел. И ты знаешь, что своё слово тебе, что на сговоре ещё дала, я сдержала.
И она подошла к Долгорукову и с видимым наслаждением его поцеловала.
Трубецкой сделал движение, чтобы броситься на Долгорукова, но тот посмотрел на него и, прикрывая собой Настасью Гавриловну, только засмеялся.
— Что, брат, не на драку ли лезть хочешь! Смешишь, братец! Знаешь, что я тебя двумя пальцами раздавлю! Со мною, на что уж у молодого государя сила, да и тот не думает равняться. Если понадобится, я всю твою челядь один разгоню! А у меня тут четверо гайдуков, один к одному подобраны. Свистну, как лист перед травой явятся, да такими шелепами угостят, что небо с овчинку покажется! Стой же смирно и слушай! К ней тебе подступу нет! Словечка промолвить не моги! А мне постарайся на глаза не попадаться! Когда я приезжаю, ты куда-нибудь проваливай или на другой половине прячься! Это твоё дело, только бы я тебя не видел! За то я тебя потешу, кавалерию красную и аренду выпрошу!
Трубецкому пришлось покориться. Другого исхода не было. Князь Иван Алексеевич Долгоруков был тогда всё! Сестра его была наречённой невестой государя, а сам он любимец, обер-камергер. Его отец и двое дядей были члены верховного совета. Один из них фельдмаршал. Что было делать? Долгоруков был всесилен! Трубецкому было обидно до невыносимости, было горько, тяжело. Жена пренебрегала им явно. У себя в доме он был не хозяин. В обществе на него буквально указывали пальцами. Но делать было нечего, и Трубецкой молчал.
Никите Юрьевичу хотелось, по крайней мере перед посторонними, показать, что он ничего не знает о неверности жены, что он просто обманут, как бывают обмануты тысячи мужей, поэтому в обществе он окружал её сбоим вниманием. Он выдерживал себя, стараясь действительно не быть дома, когда приезжал Долгоруков, или незаметно, под благовидным предлогом занятий, уходить в свой кабинет, состоявший из двух комнат, одна над другою, в двух этажах, соединённых внутренней лестницей. Одним словом, Трубецкой был сдержан, сколько было возможно; осторожен до последних пределов осторожности. Но против прямого, явного нахальства, и нахальства уверенного в свой силе и безнаказанности, никакая сдержанность, никакая осторожность не помогут...
Раз как-то поздно вечером подгулявшему Долгорукову с подгулявшими же товарищами вздумалось заехать к княгине Настасье Гавриловне ужинать.
Довольно долго прозанимавшись бумагами, Никита Юрьевич случайно приказал в этот день тоже подать себе ужин.
Сел он ужинать один у себя в столовой. Перед ним стояло плато с графином водки и несколькими бутылками вина, превосходные голландские сельди, холодный цыплёнок с гарниром, кусок сочной говядины, сыр и виноград.
Едва Трубецкой успел взять крылышко цыплёнка, как к нему ввалилась полупьяная ватага молодых людей под предводительством князя Ивана Алексеевича.
Трубецкой, не выходя из своей роли сдержанности, встретил их приветом. Но Долгоруков, не обращая внимания на этот привет, отвечал дерзко:
— Ну, приятель, не до тебя! Убирайся к чёрту и вели Насте скорей ужинать давать! Да чтобы сама пришла!
Как ни оскорбительна была такая выходка, особенно при посторонних, Трубецкой хотел обратить её в шутку. Поэтому, опускаясь в кресло, он с весёлой улыбкой проговорил:
— Ужин светлому князю сам на стол пришёл, прошу начать чем Бог послал! Дополнение явится; а за ужином, по русскому обычаю, хозяйка с кубком поздравить выйдет!
Долгорукову почему-то эта шутка не понравилась.
— Что? — воскликнул он. — Я сказал тебе, со мной не встречаться, а ты мне смеешь свои объедки предлагать! Сейчас вон, или в окно вылетишь, как я обещал! Зови жену и бегом, слышишь!
Но как по этому слову Трубецкой не вскочил и не побежал, то Долгоруков схватил его под мышки, как котёнка, размахнулся, и Трубецкой непременно бы вылетел из окна второго этажа, если бы Голицын и Салтыков, свояк Трубецкому, родной брат мужа его родной сестры, бывший тут вместе с другими, не удержали Долгорукова, заверяя его, что Трубецкой сейчас уйдёт и им мешать не будет, и если бы не успела прийти в ту минуту Настасья Гавриловна и тоже не вступилась бы за мужа.
— Ну, пусть его и убирается к чёрту! — проговорил Долгоруков, отпуская Трубецкого. — Смотри же, чтобы последний раз тебя видел! Убирайся! Вели убрать эти объедки, Настенька, и прикажи собрать ужин, как следует, а пока дай нам вина, мы пить хотим!
Трубецкой поневоле исчез.
IV
ДРУГОЙ МИР
Перед читателем Париж. Не нынешний Париж с его преобладанием буржуазии, с лихорадочной деятельностью биржевых игроков, со знаменитостями полусвета и камелиями, не только поражающими своей роскошью и не стыдящимися своего ремесла, но даже, для большей известности, рассылающими свои портреты с адресами по всем столицам Европы на конфетах, разных парфюмерных изделиях и модных товарах. Перед читателями Париж времён Людовика XV и Сен-Жерменского предместья, с мадам Помпадур, принцами и пэрами и королевской войной против парламентов, последнего остатка феодализма. Париж аристократический и клерикальный. Париж времён открытых салонов, остроумия, любезности и элегантной роскоши. Париж скромный, важный, легкомысленный и шутливый, чопорный и обходительный, развратный и богомольный. Париж с невысокими, изящными домами, с прекрасными памятниками и с полнейшим разделением сословий. Париж, в котором стремление воспитать действеннейшую наивность соединялось с всеобщим почти развратом, правда развратом тоже тонким, умным, деликатным, развратом, делающим вид, что любит и уважает добродетель, тем не менее остающимся тем, что он есть.
Это было самое трудное, самое переходное время Парижа, когда философский анализ естественных прав человека должен был уживаться с полным абсолютизмом королевской власти и выдаваемыми ею бланками повелений на пожизненное заключение в Бастилии, когда схоластика законодательной власти должна была мириться с полнейшим произволом; когда поклонение разумности готовилось перейти в полнейшее безумие и самые священные отношения служили предметом насмешки; когда остроумной шутке не было предела, когда фраза принималась за глубину мысли, а двусмысленный каламбур прославлялся как подвиг. Перед читателем Париж того времени, с духовными конгрегациями, пышными процессиями, самобичеванием и полным безверием; Париж с его аббатисами из герцогинь и герцогами из аббатов, с его торжественностью и насмешкой, слепым повиновением и полной разнузданностью, общим сознанием необходимости перемены и общим нежеланием что-нибудь изменить.