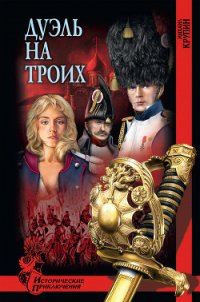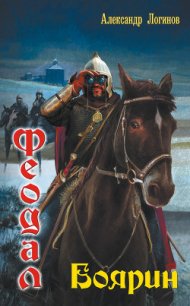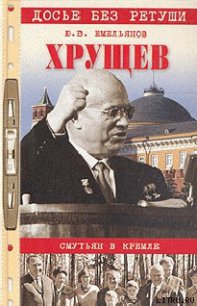Смутьян-царевич - Крупин Михаил Владимирович (книги онлайн бесплатно серия .txt) 📗
Сначала глаза округлились у всех, потом секта вся (как сидела) по чуть-чуть начала сползать на пол.
— Ну уж это… того, — непонятно сказал тот, что задал вопрос, когда снова смог стать непреклонным и злобным, — а с другой стороны, значит, это… того… нет людей?
Отрепьев ответил язвительно и подбоченясь, решив продержаться:
— А с другой стороны быть не может людей, иначе бы они упали бы.
Снова хохот: «Упали бы!», «Твердь! Нет, это ты, брат, пальцем в небо!», «Да откуда же взялся такой — к первогодкам его!»
— Подождите, ребята. Не знаешь ли, юноша, кто живет в Индии? — заговорщически подмигнул друзьям один.
— Мактиторы в Индии. Зубы у них в три ряда, а нога одна, ею они закрываются, как опахалом, от солнца…
— Слушай, хочешь учиться? — спросил серьезно, всмотревшись в монаха, сердитый сектант. — Но учти: твой игумен тебя не похвалит. Не в чести мы, социниане, у пастырей ваших.
Григорий тоже ощупал внимательным оком смешливое братство. Может, просто веселые люди, шуты, или вовсе какие-нибудь слабоумные? Только нет, непохоже: лица добрые, дерзкие, — Григорий не видел таких и у книжников на патриаршем дворе, лица, крепкие знанием точных понятий, закаленные вечным борением дум.
— Сам я себе настоятель, — решился Отрепьев, — только чур: научить меня быстро всему, до субботы.
— Хват! Да кто ты такой, чтоб курс за неделю тебе преподать?
— Угадайте!
— А что тут гадать: монах ты, и все.
— Теперь вы пальцем в небо.
Отрепьев с размаху метнул тафью под ноги, выпалил одним духом:
— Я — переодетый царевич Димитрий.
Уловил верхним краешком сердца: кто-то в сочувственном ужасе и вечной рясе замер, оставшись один наверху…
Ариане [43], последователи краковского старца Социна, с немалым рвением принялись за обучение «царевича». Проповедник Матвей Твердохлеб разгромил все твердыни его представлений о Ветхом и Новом Завете. Богословие арианства выводило Всевышнего менее жутким, Христос же и вовсе считался простым человеком, и на угнетение личным богатством кабальных холопов социниане смотрели как на преступление против Христа. Отрепьев чувствовал сердцем прозрачную прелесть воззрений своих новых товарищей. Все сектанты его тоже очень ценили, Матвей успел шепнуть каждому: если Димитрий когда-нибудь будет признан московским царем, арианскому братству должно повезти.
Отрепьева убеждали загодя в том, что учение Ария и Фавста уже пустило глубокие корни при всех королевских дворах европейских держав, и даже в Запорожской Сечи гуляет вольный казак-арианин Герасим, за верное понимание заповедей прозванный Евангеликом.
В богословии и философии Григорий особенно преуспел; в иных науках, чтоб чуть-чуть поумнеть, надо было запомнить сначала бессвязное множество терминов, а здесь все знакомо: строптивая логика на чистом месте. Когда Матвей Твердохлеб начинал объяснять ему несправедливый строй общества, Григорий даже подхватывал и шел с учителем чуть не на ровнях.
— Вот когда я буду царем, то всего всем дам вдоволь.
— Нет-нет, так тоже нельзя, — пугался Матвей, — тогда как овладеет людьми искушение? А не будет искуса, не быть добродетели высшей, она же его оборот.
— Ну и что, пусть вздохнут люди, — не соглашался Отрепьев, — пусть все эти вещи не действуют.
— Ну глаголил! — смеялся учитель. — Разве мир устоит без боренья заоблачных помыслов с чарами ада?
— А вот дети, — вспоминал вдруг Отрепьев, — какие особые помыслы и добродетели в них?
— Вот. А все потому, что в них нет сатанинских страстей!
— Ну вот видишь, — подсказывал Отрепьев, — а смотреть все равно ведь приятно.
Соглашались в одном: что в книжном и выпившем человеке много всего намешано.
— В единичном лице будто несколько лиц, — умствовал Твердохлеб, — я так думаю, недалеки времена, когда и одному человеку будут говорить: вы.
С астрономией, химией было сложнее: поначалу Григория все удивляло, потом стало теснить, раздувать. Ему представилось, что он станет самым великим монархом, основателем вольной, премудрой страны. Он напал на невзрачные литные книжки, изъясняющиеся не разнотравием слов, а емкой арабской цифирью.
Только вскоре Отрепьев увидел ничтожность свою перед этими книгами. (Иных мест даже гощинские учителя не могли прояснить.)
«Для чего мне весь мир, все утехи и слезы его, — еле двигалось творческой ночью в его голове, — если я не могу раскусить эту черствую, заледеневшую строчку, расписавшую все существо». И пропал бы монах в темных дебрях арабских значков, если бы не шпионом и пажем приставленный к нему развеселый поляк Ян Бучинский.
Ян не забывал вовремя причастить принца бастром [44], и тот свежел, забываясь.
Как-то утром Отрепьев с Бучинским похмельными вышли из школы и заслышали радостные колокола. Православные церкви сзывали своих прихожан на кирилло-мефодиеву литургию.
— О, я же должен быть в другом месте, — всплеснул руками Отрепьев.
— Як ты хцешь, Димитр, идзем разэм, — отозвался Бучинский.
Раскачиваясь, напевая псалмы, двинулись в Дерман. Пристали по дороге к двум крестьянкам, несущим дары в монастырь. Тяжелые корзины с дарами — яичками, сальцем и сдобой — давили на плечи женщин, а тут еще сбоку навешивались «филозофы». Крестьянки ругались. Забранились и пьяные.
— Лепей отэйдз, Димитр, ты — мних, — отгонял Ян Григория, — тобе не можно мец слабосци к паннам. [45]
Биение многих копыт в подлетающем облаке пыли вынудило всех убежать на обочину. Но облако не миновало прохожих, пало вблизи, передовой всадник, старец в панцире, осадил перед ними коня. С разлета, с трудом остановилась и его свита.
— Срамник рясный! — загремел голос старца, осиплый, но сильный. — А ты, Бунинский! Я дал братству вашему кров, пособил и карбовцами, думал, люди ученые, благочестивые, а вы только поите бродячих монахов, охмуряете даже паломниц. Не смейте на празднество оба соваться в обитель мою!
Ян Бунинский не был трезв или робок настолько, чтобы смолчать.
— Ясный кнезь Константин, — поклонился он, едва не свалившись, грозному всаднику, — я буду давать справозданя [46], коли выпию или в обществе женщин, которое я изберу, разве только синьору синода [47], а сей юноша, хоть и одет мнихом, и жил в монастыре твоем в Дермане, волен в действах своих еще боле меня, волен, кнезь, пшиказаць скопить с коня тобе и цаловаць кравэндзы його убранья…
Отрепьев приосанился.
— Этот юноша, — продолжал Ян, — есть природный царевич московский. Отпускает тебе, так и быть, безрассудны слова.
— Гей, ребята, — оборотился князь Константин к своим гайдукам, — взять бражников с собой, в монастырь, узнаем, что за птицу в нашем гнезде приютили и, коли не защитят ее там, взгреть обоих по всем мягким местам, чтобы помнили, как жартовать с воеводой Острожским.
Бунинский оказался не столько пьяным, чтобы в мгновение не отрезвиться, и брызнул в ближний овраг, полный жимолости и прочего куста. Отрепьев опешил и был пойман.
Варлаам долго не мог ничего отвечать, глядя то на Григория, то на старого князя в аквамариновых латах. Отрепьев начал тайно подмигивать другу, но князь приказал загородить его щитом, сам подмигнул Яцкому:
— Это кто?
— Где?
— За щитом.
— Григорий.
— Да? А вот он говорит, что — царевич Димитрий!
— Как?.. Ах, ну да, — Варлаам с перепугу присел, но его снова подняли.
— Так царевич Димитрий али Григорий?
— Григо… Димитрий.
— А откуда ты, монах, про то сведал?
— Григорий сказал.
В дальнейших расспросах не стало надобности. Константин Константинович приказал запереть бражника в свободную келью до окончания праздничного молебствия, а там уж он с ним «потолкует по-свойски».