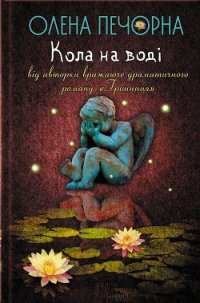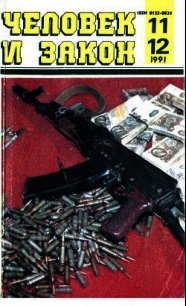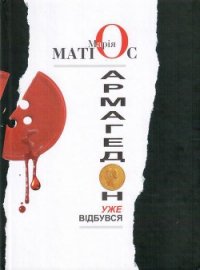Кола - Поляков Борис (библиотека электронных книг txt) 📗
Поперхнулись языки свечей, проскрипели двери и впустили в кабак двоих, не кольских – чужих. Стоят они в дверях отчужденно, осматриваются. Сулль видел их днем у исправника – ссыльные. Безработные людишки, можно бы взять на акул, да куда возьмешь – лаптежники. К морю не свычны. Дойдешь с ними до Абрамовых гор – в штаны напустят. А если акул увидят, так со страху и живота лишатся. Тот белокурый вроде бы ничего, ядреный, но – лаптежник! Сулль разглядывал, оценивал и никак не мог представить его где-нибудь на шняке, в море. Куда ему... За акулами и помор – кто с детства на воде – не каждый идет. А эти всю жизнь с землей да с навозом. С такими сам на корм угодишь. Ему, Суллю, нужны люди смекалистые, ловкие.
...Просмотрел Сулль, начала не видел, оглянулся на шум. Стоит меж столов в проходе белокурый, прикрывает собой меньшего, а с полу поднимается, трезвея, Иван, не сводя с них глаз, хватает со стола нож и идет на белокурого. Раздвинув локти, набычив голову, в пьяной злобе надвигается, готовясь ударить.
Н-да-а. Вот оно, веселье здешнее. То целоваться, то резаться. И вдруг – Сулль не понял, как случилось такое, – летит Иван с завернутой рукой обратно, падает меж лавок лицом вниз, а нож в руках белокурого остался.
– Ого!
Оглядываются поморы с удивлением, рассматривают пришельцев. Некоторые с мест поднимаются. Умолкла тальянка, усилив внимание к лаптежникам. Озираются они затравленные, а ближе всех к ним Лоушкин наступает, супится.
Бросил белокурый нож на стол, сказал обреченно;
– Ладно, бейте. Семеро одного – честь невелика.
– Зачем семеро? – обиделся Лоушкин. – Я один. А пьяного бить – совсем чести нету.
Молчат поморы выжидательно, знают – рука у Лоушкина тяжелая. Следят, как расстегивает он ворот рубахи праздничной и рукава закатывает. Поутихли в кабаке разговоры, и в тишине прозвучал степенный старческий голос:
– Сейгод с промысла все живы-здоровы вернулись. Праздник для нас великий. Стоит ли рушить его, чтоб завтра удали своей стыдно было?
Степан Митрич развернулся в сторону буянов и тоже голос, подал:
– А ведь не по-христиански ты, Лоушкин. Народ они пришлый, порядков наших не знают. Ивану же не след было с ножом кидаться, грех на душу брать.
Поостыл Лоушкин в раздумье и, видать, в душе согласился с укорами, да не хотел оставлять друга в обиде. Окинув взглядом лаптежников, прицениваясь, сел на лавку, сказал с азартом:
— Садись да помни: проиграешь – век не сидеть тебе посередь нас. – Поставил локоть на стол: – Давай, чья возьмет!
Поколебался белокурый, на руку Лоушкина поглядывая, однако на лавку сел, шевельнул плечами.
Довольные предстоящей потехой, окружили поморы стол. Всем посмотреть хотелось, как лаптежников урезонивать будут. Заранее знали, как возьмутся руками, будет Лоушкин дразнить: то вроде бы поддается, обессиленный, – вот-вот совсем сдастся, да выпрямит, поставит руку посередке и опять тешится. А наиграется – пригнет да так нажмет руку, хоть караул кричи.
И никто не ждал, что в наступившей тишине скоро встанет из-за стола Лоушкин, багровый от злости, раздвинет поморов и, опустив глаза, молча уйдет к своему столу. Шутка ли, на глазах у всей Колы лаптежник в зипуне рваном положил его руку трижды!
Не могли коляне спустить такого. Потолкались меж собой и вытолкнули к столу следующего. А через мгновение встал и он. Галдели поморы восхищенно, задорно и досадливо. Садились к столу, кто силу чувствовал и не верил, что может зипунщик быть сильнее помора. Садились с азартом и вставали с позором. Лаптежник сидел. Прекращались в кабаке разговоры и пьянка, поднимались с мест самые именитые поморы, шли к окруженному столу привлеченные необычным: одну за другой клонил руки колян неизвестный пришелец.
Когда встал из-за стола Степан Митрич, поднялся и Сулль. Стояли они рядом, смотрели, как белая в синих прожилках рука ловко гнет загорелые руки поморов. Сулль дивился ловкости и силе, взглядывался, изучал это русское лицо. Глаза честные. Но какие-то настороженные и в себя не пускают. А Сулль хотел бы заглянуть внутрь, увидеть, что там. Привлекал его чем-то парень.
Заново сцепились руки. Неуловимое точное движение – и снова рука помора повержена. А в глазах в этот миг огонек уверенности, задора, игры. И Сулль увидел. Он подметил это движение и этот огонек, рассмотрел белокурого как бы издали: он может стоять на кротиле. Но нужно много учить, нужно все хорошо обдумать. Сулль смотрел на кузнеца Лоушкина, на белокурого лаптежника, сравнивал, прикидывал. Получится, если Лоушкин не взъярится и сумеет простить обиду.
– Ты, Никитка, встань, здесь игра честная, – сказал Степан Митрич. – Негоже по два захода-то...
Пристыженный Никитка трезво, озорно блестел глазами, оправдывался:
– Не уразумел я, Митрич, как он меня ловкостью-то объехал.
– Не в ловкости и не в силе тут, а в правоте. Вы хотите обидеть пришельца, а он зла вам не сделал. Он прав, поэтому и силен. Почему я в Норвегии побил солдата беглого? Прав был, заступался за своих, русских. Он хотя тоже русский, однако за плечами ничего нет: хлеб жрет ихний, воздухом чужим дышит. А это супротив нашего – ничто! Смотрите.
Степан Митрич сел за стол, оголил волосатую в татуировке руку.
– Давай, парень, руку. За себя заступаясь, ты прав был. Теперь я прав, заступаюсь за честь поморскую. Не хочу я тебя унизить. И зла тебе не желаю. Но силу лишь правота дает.
Сошлись ладони, напряглись руки, стоя по центру, и замерли. Выжидательно следили поморы, видели, как приливает кровь к лицам, как белеют от натуги руки и как медленно-медленно рука зипунщика в синих прожилках клонится под волосатой рукой Степана Митрича.
Отчаянно, удивленно смотрел белокурый. Видно было: пытался он удержать руку. А поморы уже загомонили радостно, подняли шум.
– Ты сердца на меня не держи, – сказал Степан Митрич: – Не принято у нас это.
Растолкав поморов, выступил вперед Лоушкин. Уже пьяный, с недобрыми глазами, оперся руками о стол, сказал зипунщику, медленно, и твердо выговаривая:
– Уходите.
Ему никто не перечил. Молчали поморы, молчал Степан Митрич. Сулль смотрел, как уходили из кабака лаптежники, одинокие и чужие, не вмешивался.
«Так хорошо, – думал он. – Все правильно».
Они вышли из кабака, не глядя друг на друга, не разговаривая. Смольков украдкой перекрестился на темную громаду собора, вздохнул, как после рыданий, со всхлипом.
От залива тянул холодом ветер, сердито шуршал в траве.
Андрей зябко повел плечами, туже стянулся опояской, в сердцах сплюнул. «И нужен был нам этот кабак! Пойдем да пойдем». Но Смолькову пенять не стал: что случилось, того не воротишь. Не сговариваясь, пошли в сторону крепостных ворот, в слободку. По дощатому настилу прошли мимо темных окон таможни и казначейства. Свернули на соборную площадь. В городской ратуше горел свет, где-то за ней бряцала колотушка ночного сторожа.
Смольков шел с Андреем рядом, горестно вздыхал, все Пытался заговорить.
– Грех-то какой случился, – бормотал он, – не чаю, как и толкнул его. Брезгливый я. Как он нежданно облобызал меня, сам не упомню, как получилось.
Андрей молчал, шагая споро. Смольков повременил, дернул его за рукав, остановился.
— Ты уж меня не суди, Андрюха, что я со страху за тебя схоронился. Испужался я. Глазищи у него, ровно у быка, налились кровью.
– Ладно, чего уж там...
Сзади из переулка послышались гулкие в ночи шаги, и из-за угла вынырнул свет фонаря.
— Эй, – послышалось, – ссыльные, ждите!
Подошел мужик незнакомый, бритый. Опахнуло крепким табаком и чем-то хмельным и сытным. Он поднял фонарь, осветил Андрея.
— Я был там, кабак. Я все видел. Я люблю хороший русский сила и очень понимаю, как быть на чужбине. Я приглашаю мой дом. Я буду угощать едой, водкой. О, вы не будете жалеть! Я буду говорить, как можно вам брать хорошие деньги. Вы мой гость.