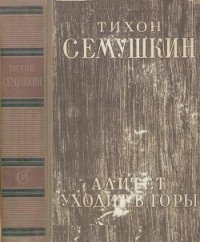Украденные горы (Трилогия) - Бедзык Дмитро (читать книги без сокращений .TXT) 📗
— Роман сказал правду. За песни збойницкие, если их петь в общественном месте, можно и в тюрьму угодить. Ни император Франц-Иосиф, — Петро показал на портрет за своей спиной, — ни жандармы не любят подобных песен. Но история должна их знать, ибо она изучает все — и доброе, и злое, — все, что творилось до нас на свете.
На этот раз Петру Юрковичу повезло. Не успокой он детей, не скажи этих фраз, чтобы защититься от подозрений войта, почем знать, не стал ли бы этот урок его последним уроком. До слуха уездного инспектора, задержавшегося на секунду в сенях перед дверью, долетели вполне благопристойные речи: учитель ссылался на авторитет самого императора. Следовательно, негласная информация, поступившая из Перемышля от греко-католического епископата, не подтвердилась: учитель Юркович вполне лоялен по отношению к императорскому престолу. Убедившись в этом, инспектор постучал в дверь и, сняв на ходу шапку, вошел в класс.
— Здравствуйте, дети, — произнес он, когда ученики всех четырех групп по знаку учителя с шумом поднялись с мест. — Садитесь, пожалуйста.
Сухощавый, в пенсне, довольно пожилой, инспектор интересовался всем: и познаниями учеников в арифметике, и каллиграфией, и тем, дошло ли до сознания учеников старшего класса значение культурной миссии императорского дома Габсбургов для горского племени русинов. Затем, остановившись около школьницы третьей группы, предложил ей продекламировать стихотворение, которое она больше всего любит.
начала с подъемом девочка, —
Инспектор недовольно повел носом, но ничего возразить не мог: стихотворение это было напечатано во всех хрестоматиях школ русинской Галиции. Равнодушно прослушав декламацию, он попросил девочку так же «отлично» прочесть что-нибудь на польском языке.
Девочка задумалась, кивнула головой и, сложив, как на молитве, ладони, начала читать на память стихотворение, которое нравилось ей своей таинственностью, скрытым для нее смыслом и еще тем, что в нем упоминалось про Христа:
Растроганный инспектор готов был расцеловать милую девчушку. Он наклонился к ученице, погладил по голове и сказал:
— Бардзо добже, ах, бардзо добже, дзецко [13].
Инспектор Дзядек и Петро остались довольны друг другом. Позднее, за обедом, на который, по случаю удачной проверки, учитель пригласил к себе пана инспектора, после второго или третьего бокала доброго венгерского вина благодарный за гостеприимство сапоцкий гость, понизив голос, сказал своему подчиненному:
— Конфиденциально, пан Юркович. Советую вам — не кладите пальца в рот ольховецкому священнику. Это небезопасно, заверяю вас.
— А пан Дзядек и об этом знает? — удивился учитель. — Откуда, пан инспектор?
Гость снял пенсне и громко рассмеялся.
— Ах, моя детка, наивный вы юноша! Неужели пану Юрковичу до сих пор в голову не пришло, что моя инспекционная поездка в Синявскую школу вызвана вашей неосторожной игрой с ольховецким священником. Пусть пан держит язык за зубами, так легче будет житься и мне и пану учителю.
— Хорошо, — согласился Петро. — Я воспользуюсь советом пана инспектора. Буду держать язык за зубами.
Дядя Петро как-то сказал, что все великие люди — и полководцы, и ученые, и поэты — заносили в дневники свои наблюдения, доверяли им тайные мысли и мечты, а случалось, писали и про любовь. С этой целью я и Суханя два года назад обзавелись толстыми тетрадями и стали заносить туда не только то, что с нами происходило, но и свои мечты о будущем. Суханя, например, хочет научиться писать живых людей, святых для церкви, а мне хотелось сочинить для ольховецкой читальни умную, правдивую пьесу, чтобы у зрителей, когда они будут смотреть ее, выступали слезы на глазах.
«Писать буду обо всем, — читаю я первую строчку, датированную первым апреля 1911 года, — но не каждый день, а всякий раз, как случится что-нибудь значительное. Это будет моя исповедь. Не утаю нисколечко перед самим собой, писать буду единственно чистую правду».
Пробегаю глазами наиболее интересные места в тетради:
«Дядя не поехал в Россию, не дали паспорта. А я на месте дяди обошелся бы без него, перебежал бы границу ночью. Конечно, такой особе, как профессор, неприлично бегать, да еще ночью. Если поймают, стыд будет на всю империю».
Другая запись:
«Вчера утром мама сказала мне:
— Поучился ты, Василек, ну и хватит. Кто нам с тобою хозяйство наладит? Папа в Америке, а ты здесь должен его место занять. Ты самый старший, Василек.
Совестно об этом писать. Но от маминых слов на меня напала такая тоска по всему тому, от чего меня мама отговаривала, что я проплакал с утра до позднего вечера. Да, видать, у мамы доброе сердце: на следующий день она велела мне одеться по-праздничному и повела в город, прямиком в гимназию».
Третья запись:
«И вот я гимназист, с одной серебряной нашивкой на твердом стоячем воротнике темно-синего форменного мундира. Немного неудобно в таком воротнике, ходишь, словно длинную линейку проглотил. Нас, очевидно, хотят приучить, чтобы мы свысока смотрели на тех, кто не ходит в гимназию… С первого же дня я невзлюбил эту школу, и гимназистов, и профессоров. Все здесь слишком чинно. Шагу спроста не сделают, и нашей речи не услышишь. После первого урока меня спросил бледнолицый паныч, от которого пахло духами:
— Ты русин?
Я кивнул, а он повторил это громко, чтобы все слышали, кто я такой. На уроке польского языка, когда я сделал неправильное ударение, кто-то из учеников фыркнул, за ним весь класс, подбодренный усмешкой учителя, поднял меня на смех. У меня потемнело в глазах, сжались кулаки. Так, публично, меня еще никто не смел оскорблять!»
«Я возненавидел гимназию еще сильнее после того, как однажды получил по латыни пятерку [14]. Учителю показалось, будто мне подсказывают. Мне действительно подсказывали, но умышленно не то, что нужно, а чтобы сбить меня с толку. Учитель же почему-то был уверен, что я повторяю подсказанное, и влепил мне самую плохую отметку. В переменку я не вышел из-за парты, а, подперев голову руками, окостенел в такой позе, с трудом сдерживаясь, чтобы не разреветься. И вдруг слышу над самым ухом глумливый голосочек бледнокожего паныча:
— Что, русин, не быть тебе ни ксендзом, ни профессором. Зато сапожником ты мог бы стать.
Не могу даже описать, какой обидой я загорелся от этих слов, как вскочил с места и изо всей силы ударил паныча кулаком между глаз. Хотел дать еще раз, да из носу паныча потекла кровь…
Так закончилась моя гимназия. Я взял из парты книжки, не торопясь связал их ремешком и, пока звали для расправы воспитателя, бесстрашно прошел мимо притихших гимназистов. Пускай знают, как бьет мужицкий сын».
Еще одна запись:
«Долгое время не записывал в дневник ни слова. Про что было писать? Про мамины слезы или, может, про то, как я сам каялся и плакал, зарывшись в сено на чердаке? Мечтал о збойниках, подговаривал податься к ним Суханю и Гнездура, но из этого ничего не вышло, потому что в лесу лежал глубокий снег. Рассудили ждать лета. Тем временем вызванный из Синявы дядя Петро отвел меня в Саноцкое высшее начальное училище. Директор школы Мохнацкий учил когда-то дядю и считал, что я буду учиться так же прекрасно, и потому охотно принял в шестой класс. Это училище с первого же дня пришлось мне по сердцу. Здесь учились дети городских ремесленников, рабочих вагонной фабрики, также сыновья крестьян, вроде меня. Не было лишь панычей. Сын ольховецкого помещика учился в гимназии, ездил туда в фаэтоне. Там же учились дети уездного старосты, правительственных чиновников, сыновья адвокатов. В училище мне больше нравилось, здесь никто не называл меня «русином», не глумился над моей бедностью, а на переменах у нас было шумно и весело… Больше всего меня радовало, что со мною вместе учились Гнездур и Суханя. Они даже и не пробовали поступать в гимназию, были довольны, что их, как способных ребят, приняли в городское училище, где, помимо всего прочего, учили столярному ремеслу, черчению и рисованию».