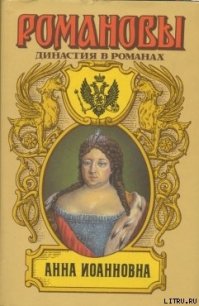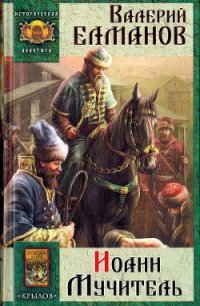Иоанн Антонович - Сахаров Андрей Николаевич (читаем книги онлайн txt) 📗
Утро следующего дня Мирович провёл у Бавыкиной. Та его встретила укоризнами, выговорами:
– Баклуши бьёшь, в полк не едешь, где шляешься? вот начальство на тебя напущу, скрутят молодчика, во фронт, на абафту. Меня забыл, бесстыжих глаз по неделям не кажешь.
Молча выслушал Мирович все нападки, сказал только:
– Эк расходилась; погодите, всё наверстаю.
От Бавыкиной он отправился к Ломоносову, узнав, что Михайло Васильич, по обычаю, занимается в саду, и пошёл к знакомой беседке. «Не открыться ли, – рассуждал он, становясь за её стеной, – вот удивился бы. Да что! станет ещё отговаривать – ненужные-де попытки, погибнешь. Как же, так вот я и отдамся даром! И он, должно, в сердцах: не оценили по достоинству его хвалебной оды, сумароковской дали аттенцию. Уж вот, чай, не в кураже, ругмя ругается. Нет, лучше пусть увидит нас в славе, в блеске, в триумфах…»
Мировичу было слышно, как покрякивал и шелестел бумагами Ломоносов. Он перекрестился, вздохнул и бережно, на цыпочках, не заходя в беседку, вышел опять из калитки.
Ещё через день Мирович съездил на Каменный остров, на дачу Птицыных. Он зашёл со стороны чёрного двора и долго поджидал, высматривая кого-нибудь из прислуги. Вышел с вёдрами кухонный мужик. Мирович, заторопившись, из старенького, потёртого кошелька достал полтинник, подозвал мужика и попросил его выслать горничную. От неё Мирович узнал, что Поликсена по-прежнему находится у князя Чурмантеева на Калмыцкой линии, изредка шлёт письма и собирается куда-то за границу.
– А девочка князя… хворая… жива? – спросил Василий Яковлевич.
– Померли-с и оне, на Фоминой.
Мирович, повеся голову, побрёл к извозчику. Вечером того же дня Ломоносову подали занесённый каким-то мальчиком пакет. То была цидулка от Мировича.
«Давно прибыл с родины, – гласило письмо, – да некогда было, простите, беспокоить заездом, – и к чему? Всё кончено, во всём отказ. И невеста насмеялась; не лучше ж того и господа сенат. Совет дан: фортуну взять за чуб… Оно бы и можно: да ну, как сорвёшься? Еду в новый полк. А услышите о неудаче, молитесь о рабе Божьем Василии».
– Рехнулся малый, жаль, – сказал себе, задумавшись над этими строками, Ломоносов, – ясно дело, в иске вновь ему отказано. В новый полк уехал, а куда, и словом не упомянул.
Часу во втором дня, тринадцатого мая, Мирович спокойно и, по-видимому, даже с особым удовольствием зашёл опять под Смольный к Ушакову.
– Ну, брат, собирайся, – сказал он ему.
– Куда?
– А вот увидишь.
Они вышли на улицу, извозчика не взяли. Странная, давно не бывалая, тихая улыбка блуждала по лицу Мировича. Он не очень торопливо, молча и без оглядки шёл в направлении к Невской першпективе. На Аничковом мосту он чуть было не столкнул за ветхую деревянную перекладину какого-то зазевавшегося пешехода. Повернули прохладною, теневою стороной к Гостиному ряду. На Невской першпективе, от зноя, пыли и духоты, было мало прохожих. Кое-где только погромыхивали с опущенными занавесками кареты. Приятели вошли в ограду Казанской церкви, посидели здесь под развесистою липой, потолковали и вошли на паперть. Из церковной сторожки выглянул привратник. Мирович подозвал его и шепнул ему несколько слов. Тот сходил в смежный двор. Явились нарядный дьячок и полный, добродушный священник. Дверь собора открыли.
– Пожалуйте, – сказал, пропуская офицеров вперёд себя, степенный, с отрадно выспавшимся лицом священник. Окружённый зеленью, сумрачный и тихий храм пахнул на вошедших приятной прохладой и ладаном. Зажгли кое-где свечи. Дьячок вынес и поставил у левого бокового придела аналой. Священник надел ризу, выпростал на плечи прядь русых, густо вившихся волос и, склонясь в сторону и тихо крякнув, спросил:
– По ком панихида?
– По умершим, убиенным рабам, Василию и Аполлону, – твёрдо и с тою же тихой, чуть блуждавшей улыбкой ответил Мирович.
Ушаков удивлённо раскрыл на него глаза.
– Кто же, родичи или товарищи они будут вам? В сражении? – спросил, крестя и принимая кадило, священник.
– В сражении… однополчане-с, – ответил Мирович.
Панихида началась.
– Что ты, безумный, что? – не утерпев, прошептал Ушаков.
Мирович не глядел на него и ничего не отвечал. Став на колени, крестясь и кланяясь в каменные плиты, он весь погрузился в безмолвную, напряжённую молитву. Ушаков хотел следовать его примеру, но, как ни крепился, мысли бежали от него. На нём не было лица. Тут только, угадав и предчувствуя что-то безобразное, страшное, он опомнился, но увидел, что поздно. Озираясь испуганным, потерянным взором, он тупо смотрел перед собой, вздыхал и, отирая лицо, не мог надивиться, откуда всё это налетело и как он мог решиться.
«Панихида! да ведь это ужас… смерть! – мыслил Ушаков. – И кто накликал, кто пророчит эту страшную развязку?».
Мирович исполнял печальный обряд спокойно и с таким торжеством, будто его венчали. При пении «со святыми упокой» Ушаков невольно всхлипнул, хотел удержаться и, упав головой на плиты, глухо разрыдался. Несколько секунд, вздрагивая плечами, он не поднимался от пола.
«Да что с ним? вот чудак! и из-за чего?» – подумал Мирович, сухими, без блеска, глазами с недоумением глядя то на Ушакова, то на священника и дьячка, на лицах которых, от такой горести молящихся, невольно также выражалось смущение.
Панихида кончилась. Мирович расплатился и вышел на паперть.
– Смотри же, Аполлон, – сказал он, пройдя с Ушаковым в тенистый угол церковной ограды, – теперь нас уже нет в живых… понимаешь, мы обречены, отпеты, с каноном, за упокой…
– Да что ж всё это значит? И кто тебя уполномочил? – спросил Ушаков.
– На случай, коли придётся умереть без покаяния. Ты клялся перед алтарём… Клянёшься ли ещё раз Божьей матерью Казанской?
– Клянусь.
– И Николаем-угодником?
Ушаков повторил клятву.
– Нет, постой, – не удовольствовался Мирович.
Он снял с шеи добытые где-то кресты с мощами и один надел на Ушакова, другой опять на себя; отдал ему с руки перстень с адамовой головой, а себе у него взял кольцо с аметистом.
– Теперь мы братья, побратались! – сказал он торжественно, замедлясь у выхода из ограды. – Если нет у них Бога и нет истинного царя, Третьего Петра, то где же Бог и где людская совесть. Мертвеца им… замогильную тень… Смотри же, ожидай зова; придёт час, извещу… разгромим…
Двадцать пятого мая Ушаков прибежал впопыхах к Мировичу, уже уложившему чемодан для отъезда на службу в Шлиссельбург, и объявил, что его неожиданно в то утро призвали в коллегию и, за недостатком фельдъегерей, объявили приказ: ехать завтра в Смоленск, с казной и бумагами, к генерал-аншефу, князю Михаилу Никитичу Волконскому. Эта весть, как громом, поразила Мировича. Он подозрительно, строго взглянул на приятеля и вдруг вспыхнул.
– А! Уж придумал, напроворил план? Подстроил с начальством? – вскрикнул он, не помня себя от гнева. – Вон, изменник! вон, ты всё подло… чтоб духу твоего не пахло!
Ушаков показал ему письменный, по форме, ордер. Мирович опомнился, пересилил себя, стал соображать.
– Ну, чёрт, ничего! – сказал он, отвернувшись с отвращением. – Не всё свет, что в окне… Можно и без тебя… Смотри, однако, не опоздай… Ведь ты в заговоре со мной, не отвертишься… помогай, не то пулю в лоб, здесь не шутки…
– Да убей Бог, клянусь – я духом съезжу и… что мне там делать?.. ну, разве…
– Еду послезавтра, – не слушая его, внушительно перебил Мирович. – А наше рандеву – помни – день в день и час в час – двадцать четвёртого июня, вечером, на закате солнца… да не спутай, таранта!.. двадцать четвёртого, как раз в Иванов день… понял?.. тезоименитство нами спасаемого его высочества или, вернее, будущего его величества…
Ушаков слушал внимательно, точно приказ высшего начальства.
– А государыня в Ригу едет двадцатого, – продолжал небрежно Мирович, – и это тоже не забудь… узнал от камер-лакея Касаткина… Помнишь? Он письмо о Поликсене доставил от Рубановского… знает все тайны двора, как и что, – я по пальцам расчёл и сообразил… Да куда же ты, постой! Эк, разнесло, не посидится. Слушай, Аполлон, – прибавил Мирович, отведя Ушакова в сторону, – если ты мне да осмелишься, или нет, не то… стой!.. Если в этой командировке, ну, дьявол! пойми, – если кто вздумает тебе стать поперёк, так или иначе помешать, – то помни: прожду день, прожду два, ну разанафемы, даже неделю… не долее, впрочем, первого июля, а там, – заключил Мирович, склонясь к самому носу Ушакова, – помни, я сам, без тебя, я один… и тогда уж, не прогневайся… весь успех, вся слава и почёт за мной…