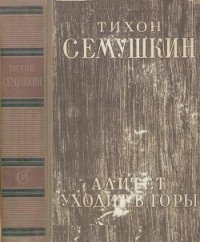Украденные горы (Трилогия) - Бедзык Дмитро (читать книги без сокращений .TXT) 📗
В ходе беседы с богом Войцек не заметил, как открылась дверь камеры и ее порог переступил ксендз местного кафедрального собора.
Давний христианский обычай — служитель церкви приходит к осужденному, чтобы именем бога снять с него грехи и тем самым помочь преступнику взойти на эшафот с очищенной душой. Высокий, с впавшими щеками, в длинной черной сутане, с крестом в сложенных на груди руках, ксендз явился к Войцеку в этой полутемной камере посланцем бога, того доброго и справедливого бога, с кем он давеча вел беседу.
— Это пан бог услышал мою молитву? — спросил Войцек, поднимаясь с пола.
— Именем бога и всех его святых, — проговорил торжественно ксендз, — именем ран Христовых и пролитых слез девы Марии я пришел снять с твоей истерзанной души твой страшный грех…
Войцек, не дослушав, выставил перед собой, словно для защиты, обе ладони.
— Грех мой, я об этом уже говорил господу богу, в том, что навел этих бешеных псов жандармов на след борцов за счастье народа.
— На твоей душе убийство, — жестко перебил его ксендз, — убийство двух христиан.
— Но ведь они заслужили кары господней!
— Ты убил таких же, как сам ты, поляков!
Войцек сделал два шага вперед, заглянул в лицо человека в черной сутане и сейчас лишь как бы пробудился от сна.
— Значит, ты не богом послан? Не от бога пришел? — спросил он глухо, с болезненным разочарованием в голосе. — Ты ксендз? Да? И ты, ксендз, жалеешь этих собачьих выродков? Тебе хотелось бы, чтоб они и дальше терзали невинных людей? Тогда напрасна моя беседа с богом. — Войцек отвернулся, отошел в угол и, закрыв ладонями лицо, замер в безмолвной скорби.
Упершись локтями в колени, Иван Суханя сидел на деревянном топчане, ожидая с минуты на минуту, что откроется дверь и жандармский вахмистр вызовет его на последнюю прогулку к памятнику Костюшке. Из соседней камеры Пьонтек выстукивал: «Держись, парень. Из Львова уже получена депеша. Вот-вот за нами придут». Иван ответил: «Я готов». — «А как там Войцек?» — поинтересовался Пьонтек. «Войцек молчит». — «Ты подбодрил бы его, Иван». — «Пробовал, да он не отвечает».
На изможденном, обрызганном веснушками лице Сухани мелькнула слабая усмешка иронии. Пьонтек советует подбодрить Войцека. А кто же его, незадачливого живописца, подбодрит в последнюю минуту жизни? Он мечтал о Краковской академии, мечтал учиться у известных профессоров, а оказался в этой грязной, забрызганной кровью дыре, у виртуозных мастеров, что так ловко умеют чеканить узоры на людских спинах. Умереть на виселице со связанными руками, когда тебе едва девятнадцатый пошел… Он застонал, обхватив голову ладонями. Мысли его унеслись к богу, к товарищам на воле: спаси меня, боже, сотвори чудо, или вы, милые товарищи, перебейте тюремную охрану, сбейте решетку с окна! Ведь в давние времена, еще до австрийского владычества, когда Санок обступали высокие валы с бойницами, пришли же лемковские повстанцы — збойники под стены с лестницами, перебрались в город и, перебив охрану, разогнали панский суд, выпустили на волю из тюрьмы своих товарищей. Почему же такое невозможно нынче? Почему молчат товарищи? Пьонтек и сейчас не теряет надежды на стачку. Но заводской гудок молчит. Рабочим безразлично, что их активистам осталось жить считанные минуты. Связанные руки, петля на шее…
Он содрогнулся. Запрокинул голову, прикрыл веки. Неужели он никогда больше не увидит ни мамы, ни Анички, ни родных гор, ни серебристого шумливого Сана?
На всю жизнь запомнилась ему прошлогодняя прогулка, — они с Аничкой условились пойти в лес, полакомиться панской малиной. Она шла с ним рядом и напевала:
Они наслаждались всем, что попадалось им на глаза: и полетом орла в небесной голубизне над горой, и зеленой ящерицей, прошмыгнувшей под ногами, и суковатой, искривленной ветрами сосной на опушке общипанного леса…
— Иванко, смотри, эта сосна совсем старенькая, но еще в силе бабуся. Треплют ее ураганные ветры, норовят смести с дороги в большой лес, а она не поддается, не гибнет, ее не сломить, стоит себе, растопырив сучья, будто загораживает руками своих деток и внучат. Видишь, Иванко, сколько их позади у нее, — до чего же огромная лесная семья. А эта шустрая ящерица не верит нам, укрылась меж камней, боится, что мы ей отдавим хвостик. Иванко, правда ли, что папоротник один раз в жизни цветет? В ночь под Ивана Купалу? И что этот цветок, стоит его сорвать, приносит людям счастье? Не веришь? А я верю. Хочешь, пойдем вместе за этим цветком? Думаешь, я могу испугаться? Ей-богу, нет. Я волков не боюсь, а от вепря могла бы враз на ту сосну взобраться. Ох, Иванко, если б нам посчастливилось встретить нынче в лесу серну. Серна — она что звездочка, падающая с неба, мгновение — и нет ее, страшно пугливый зверек.
Всю дорогу, пока шли общинным редким лесом, Аничка не переставала щебетать о своих впечатлениях от всего, на чем останавливался ее взор; умолкла она уже на подходе к панскому лесу. Тут они тихонько, прислушиваясь, не хрустнет ли где хворостинка под ногами лесника, перебрались через неглубокий ров. Отсюда начинался нескончаемый панский лес, раскинувшийся на тысячи моргов длинной гористой полосой. Он резко отличался от общинного леса, с его скудной травой, истоптанной копытами, с суковатыми, обшарпанными ветром деревьями, которым выпало оберегать от бурелома панский. Зато здесь роскошные были деревья, десятилетиями росли они, тянулись вверх, в затишье выстаивались для пилы и топора, чтобы попасть потом во все концы Европы.
Аничка запрокидывала голову так, что платок сползал ей на плечи.
— Иванко, смог бы ты вскарабкаться вон туда? — шептала она, показывая рукой на макушку ели, вымахнувшей под самое небо. — А я смогла бы, если б ты меня немножко подсадил.
Иванко приложил палец ко рту — в панском лесу не до разговоров, если не хочешь уйти отсюда без юбки. Отпустив Аничкину руку, он двинулся вперед, чтобы проложить ей тропу в густых зарослях папоротника.
— Боже ты мой, сколько тут его. Не может быть, чтобы хоть один папоротник не зацвел на наше счастье.
— Зацветет, право, зацветет, только молчи, — папоротник не любит звонкоголосых, — умолял он дивчину. — Лучше смотри себе под ноги, не наступи на гадюку.
Поднявшись на гору, они пересекли ее с южной стороны. Перед ними открылась солнечная поляна, усеянная пеньками и заросшая непроходимыми кустами малины. Когда-то, может лет пять назад, тут рос частый еловый лес, стройные деревья тянулись макушками к далеким тучам, но случилось однажды весной, что пан Новак, испытывая большую нужду в деньгах на веселую поездку в Париж, привел в лес асессоров и показал им на гору:
— Прямо оттуда и начинайте рубить! Все до единого. От горы и до ручья.
За каких-нибудь два года облысевшая гора покрылась кустами малины. Ягоды на них вызревали под солнцем крупные, душистые, сочные, истинное наслаждение для пастухов из общинного леса, да еще по воскресным дням отваживались сюда заглянуть кое-кто из взрослых.
— Они меня, шельмы, с сумой по свету пустят! — схватился за голову пан Новак, а чтоб до этого не дошло, он велел лесничему продавать мужикам квитанции на право входа в малинник, а кого схватят без квитанции — вести на фольварк и безжалостно штрафовать.
Суханя подтрунивает над паном, мысленно грозится: «Мы тебе заплатим! Теми же деньгами, какими вам уже в России заплатили. Обожди только чуток…» Он ведет Аничку в самую чащобу, пробирается с ней к скале, осматривается в поисках подходящего места, потом подает ей руку:
— Тут нас, Аничка, никто не найдет.