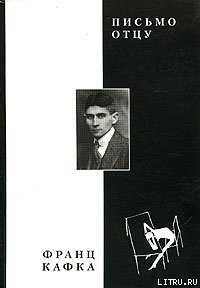Хмель - Черкасов Алексей Тимофеевич (читать книги регистрация .txt) 📗
Она давно свыклась с одиночеством, постоянно листая в памяти впечатления, дни, события, как круглые четки, и никому не поверяла ни своих дум, ни сердечной тайны. И в этом ее отчуждении повинны были люди, когда ее, доверчивую, необычную в своей откровенности, сочли сумасшедшей, не догадываясь, что она просто была в состоянии крайнего накала всех душевных сил. Она искала участия, ответа на свои вопросы, а нашла убийственный приговор: сумасшедшая.
Она подумала: был ли он, Тимофей, таким, каким она воображала в своем ожесточенном поиске живой души?
«Нет, он совсем чужой». Но он был и шел рядом; сапоги его звонко стучали подковками.
Тот был юный, первозданный, как вешний лист, а этот – не то что обстрелянный, а насквозь пропитанный окопной жизнью, ходивший по израненной земле в обнимку со смертью, и совсем не тот, каким был в Белой Елани…
Где-то там, в минувшем, была Дарьюшка – белая птица. Это он хорошо помнил, но не мог бы с уверенностью ответить: какая она была, белая птица? Тогда они поклялись быть мужем и женой, а потом кинуло их в разные стороны, как две щепки. Крутило, мотало во времени, и вдруг опять прибило на одну и ту же отмель, и они не узнали друг друга, не признались в родстве.
«Ты же выздоровела, Дарьюшка», – сказал он в ту ночь без ночи, и это было самое страшное для нее: «И он, как все. И никогда не поймет меня».
… И надо же было!
На тротуаре столкнулись с доктором Столбовым.
– Честь имею! – поклонился не Дарьюшке, а Тимофею. – Рад видеть вас вместе, весьма рад. Только не запамятуйте мое наставление, господин офицер… э…
– Боровиков.
– Память-то, память!.. Ну, как ваше самочувствие, моя беспокойная пациентка?
«Подлец, паук, насекомое!» – кипела она, зло глядя на пухлые докторские щеки.
– Надеюсь, теперь вас не беспокоят страшные вопросы и пять мер жизни? И самой вспомнить смешно, не так ли? Есть одна путевая мера – сама жизнь. От чрева до ямы – единственная для каждого.
– И в этой мере, – не удержалась Дарьюшка, – пауки и тараканы, голуби и волки в одной банке, и все счастливы?
– Те-те-те! Опять за старое? Следите за ней, господин прапорщик. Пусть меньше думает, а больше вот так, под ручку да по бульварчику… Ба! Забыл сказать вам, господин прапорщик: в том, что я скрыл от вас местопребывание больной, когда вы прошлой осенью были у меня, повинно не только жандармское управление. Господин Юсков, человек весьма крутого нрава, особенно предупреждал, чтобы не допускать к больной трех господ, – вас, капитана Гриву и инженера Гриву, весьма настойчивого молодого человека.
– Инженера Гриву?
– Именно, господин прапорщик. И, должен сказать, оба упомянутые, капитан и племянник оного, в те же дни, как Дарью Елизаровну поместили ко мне, настойчиво домогались взять ее тайно.
Дарьюшка так и вытянулась в струнку. Капитан Грива!.. Он хотел вырвать ее из лап мучителей. И не один, а с Гавриилом!..
– Честь имею! – Столбов приподнял шляпу.
Значит, Тимофей ходил советоваться к доктору? Он будет следить за нею, он ее тоже считает сумасшедшей… «Все разом, одним разом, – решилась Дарьюшка. – Я теперь знаю, что делать. Найду капитана, и он поможет. Но где Гавря? Или он в тайге? Уеду в тайгу. Завтра», – бурлила Дарьюшка, пряча руки в муфту.
Тимофей спросил:
– Я ничего не слышал про капитана Гриву и про инженера Гриву. Ты их знаешь?
– Не знаю… Не помню…
– Что ты, Дарьюшка?
– Ничего. Устала на вашем Совете, голова болит.
– Ты извини, я не сказал тебе…
– Не надо, не хочу.
– Выслушай…
– Завтра. В другой раз. – И вдруг захохотала. Тимофей в испуге остановился:
– Что с тобой?
«Он сейчас подумал, что у меня… началось!» И ответила:
– Вспомнила Аинну. Мы жались с ней там, наверху, когда Дубровинский, Белопольский, а потом Арзур Палло говорили речи. Аинна все вертелась и злилась, что ее не пригласили за красный стол, где сидел Арзур. «Терпеть, говорит, не могу. От этой революции портянками пахнет».
– А! Портянками? Самый крепкий запах революции. Когда ее начинали временные в Петрограде, она, конечно, французскими духами пахла. Скоро духи выветрятся.
– И что потом?
– Начнется революция пролетарская, от которой буржуазии и Временному не поздоровится.
– Сколько же будет революций?
– Еще одна. Сейчас буржуазная, а потом пролетарская.
– А главной не будет?
– Какой еще?
– Революции в душе человека. Стрелять и убивать всякий сумеет, А вот с душой как? Кто ее просветлит? Или так и будут люди жить в цепях да в ненависти? И терпеть жестокость будут, как скоты?
– Вот и будет революция пролетарская. И для души, и для живота.
– Как понять – «пролетарская»? Пролетка, пролет, пролетит. От этих слов?
Тимофей пояснил, что пролетарская – все равно что рабочая, всенародная.
Нагоняла маршевая рота. Солдаты гаркнули песню про канареечку, которая жалобно поет. И Дарьюшке тоже захотелось жалобно запеть, как той канареечке, но не при Тимофее же Прокопьевиче, который недавно сидел за большим красным столом и писал протокол заседания Красноярского исполкома Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов.
– «Канареечку» еще при Суворове пели, – сказала Дарьюшка. Тимофей ничего не ответил: в ее тоне было нечто оскорбительное.
– Боже, как повторяется мир! Как будто все вечно – и ошибки, и трагедии, и даже революция. Но когда же свершится революция в душе человека?
– Настанет такое время, – глухо отозвался Тимофей. – Хочу верить, хочу! – Завидев дом Юсковых, спросила: – Тебе ведь с солдатами?
– Догоню. Завтра, если ничего не случится, приду на весь день.
«Завтра я уйду к капитану Гриве на весь день», – подумала Дарьюшка.
Темный, отчужденно холодный дом Юсковых; ни в одном окне нет огня… Тимофей хотел было обнять Дарьюшку, но она вывернулась.
– Ты сердишься?
– Я же… психически больна. Чего еще вам, Тимофей Прокопьевич? Вот сейчас вспорхну к небу. А вам жить па земле. На небо, на небо! – И, не попрощавшись, скрылась за калиткой.
Обидно и больно. Она упорхнет. Куда только? Он ничего не знает, Тимофей. Той, давнишней Дарьюшки нет…
II
Замерла солдатская песня…
Дарьюшке опостылел дом Юсковых; она вернулась па улицу.
Вдруг повалил густой мартовский снег, подул ветер о Енисея. Завихряясь, снег танцевал у ног Дарьюшки. И она, запрокинув голову в меховой шапочке, подставляла разгоряченное лицо под холодные хлопья. «Буран, буран, – радовалась Дарьюшка. – «Буря бы грянула, что ли, чаша с краями полна!» – вспомнились некрасовские строки. И сама ответила: – Она грянула, буря, грянула! По всей России. Дует, кидает снегом, метет по улицам, а я все чего-то жду, как будто сама хочу лететь за бурей».
Сейчас бы пойти по темным улицам, идти всю ночь напролет. Туда, к Черной сопке. Или на правобережье, до станции Злобино. Фу, какая станция – Злобино! Нет, лучше по Енисею – торосами, торосами… Или упасть на лед, чтобы остудить кровь и глядеть на серую овчину неба.
«Хочу, хочу, хочу! – беспрестанно твердила Дарьюшка, и тающие снежинки приятно холодили ее жадные, давно не целованные губы. – Хочу, чтобы все поднялись и шли навстречу буре и чтоб люди навсегда забыли про жестокость скотов с оружием. Пусть бы смеялись счастливые, и пусть слово в России станет вольным, как во Франции. Либертэ, Эгалитэ, Фратернитэ!..»
Очнулась от чьих-то скрипучих шагов. К воротам шел человек в пальто нараспашку, шапка с длинными ушами, их заносило ветром, как тюленьи ласты. Дарьюшка отступила к калитке.
– А-а-а, черт! Припозднился! – послышался голос. – Спят в этом идиотском доме! – И бесцеремонно подошел к Дарьюшке. – Расщепай меня на лучину… Дарьюшка? – И придвинул лицо к лицу. – Она! Побей меня громом! Моя Дульсинея Енисейская!..
Дарьюшка оробела – она узнала Гаврю.
– Побей меня бог, Дарьюшка! Дядя сказал, что никак не мог с тобой свидеться. Хозяйка этого идиотского дома, Евгения Сергеевна, весьма скверное создание природы и господа бога. Мой капитан расплевался с ней, уходит с «России».