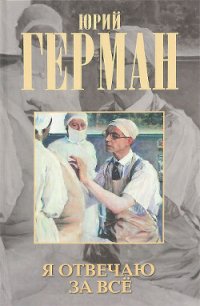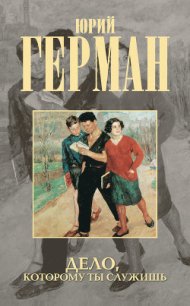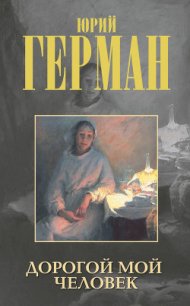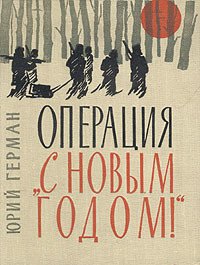Начало - Герман Юрий Павлович (книги онлайн полные версии .TXT) 📗
Мойер вновь воспрянул духом и морально свое выздоровление относил за счет Пирожникова – как называли в доме Пирогова и в глаза и за глаза в память давешней оговорки Екатерины Афанасьевны Но не только за это полюбил старый Мойер рыжего и некрасивого москвича: порою казалось ему, что кроме того бессмертия, в которое он привык верить, есть еще бессмертие иное – бессмертие на земле, реальное и видимое, ощутимое, вещное. При жизни Машеньки он не добился этого бессмертия, не успел, и не до того было, хотя он и мучился, зная: Машенька любила не его, а поэта Жуковского, творца сладкозвучных стихов, до которых ему было не много дела – они настраивали его на жалобный лад, не больше, – а люди говорили, что это и есть бессмертие. Нет, бессмертие есть прежде всего дело – так думал Мойер, – не сладкие и умилительные звуки, не рифмы и краски, не вздохи и цветы, но истина, поиски ее, муки, связанные с нею, дело отыскания истины.
Он не нашел бессмертия при жизни Машеньки, и сладкозвучный Жуковский был в глазах покойной неизмеримо выше скромного дерптского профессора, пахнущего больницей и лекарствами.
И вот через шесть с лишним лет ему показалось, что рыжий и косой юноша, так странно возвративший его к жизни, – и есть земное бессмертие, частица истинной его славы, частица того дела, которое до сих пор не удалось ему осуществить и которое, быть может, окажется осуществленным не его руками, а пока что неловкими и неумелыми, но сильными и цепкими лапами удивительного существа, посланного ему судьбою.
С ласковой и порою удивленной нежностью смотрел старый Мойер на бешеное восхождение, совершаемое на его глазах юным Пироговым. Порою страх охватывал его, страх за эту удивительную жизнь, доверенную ему, страх за будущее этого мальчика. Порою казалось ему, что Пирогов кончит домом умалишенных, что так нельзя, что надо его остановить хотя бы силой…
Но остановить у Мойера не хватало сил. Он не мог не любоваться на жадную страстность своего ученика, на детскую его веру в силу знания и разума, не мог разрушать в нем надежду на победу знания над смертью – он только передавал ему то, что знал сам, спешил, торопился, читал по ночам специально для Пирогова и, занимаясь с ним, не без опаски ждал его вопросов, обычно целого потока вопросов, и чувствовал себя в это время так, будто его обстреливают из нескольких пистолетов сразу и он должен только уклоняться от выстрелов.
Вместе с наивной верой во всемогущество человеческих знаний Мойер заметил в Пирогове еще одну совершенно противоположную черту и определил эту черту для себя как залог всех будущих пироговских успехов. Чертой этой, поразившей Мойера при самом первом знакомстве с юношей, было недоверие к словам и любовь к постижению всего, хотя бы уже постигнутого человечеством, собственным опытом.
Ничему и никогда Пирогов не верил сразу, все ставил под сомнение и, слушая своего учителя с вежливым вниманием и интересом, все же не мог скрыть того, что слушание лекции есть для него только печальная необходимость, без которой он не может приступить к самому для него главному и интересному – к опыту, который, в свою очередь, не есть наглядное повторение лекции, а средство к приобретению иных, и нередко противоположных утверждениям лекции, знаний.
Почти ликуя, он находил погрешности в книгах, рекомендуемых ему Мойером, нередко сам при этом ошибался, сам находил свою ошибку и беспощадно уничтожал себя, свое самомнение; свою темноту, как любил он говорить, свое невежество…
Три совершенно разных характера развивались рядом на глазах у Мойера и давали ему обильную пищу для наблюдений и размышлений: Даль, Иноземцев, Пирогов.
С серьезным интересом и вниманием изучал длинноносый Даль под руководством Мойера хирургию и анатомию – изучал так, как до него изучали сотни прилежных студентов, будущих лекарей, и Мойер видел в нем приятный ему тип честного человека, понимающего, что знания требуют усердия и прилежания, что в медицине есть не только хирургия и анатомия, но и фармакология, и химия, и физика, и терапия, и множество других полезных вещей, которые обязательно надо знать и без которых хорошим лекарем не будешь.
Красивый, с блестящими глазами Иноземцев был совсем иным человеком, чем Даль. Он не просто учился у Мойера – он учился у него блеску и изяществу в оперативной хирургии, уже сейчас готовясь к тому, что ему придется не только резать, но, главным образом, учить других, как резать, а учить, не поражая и не удивляя, ему не хотелось.
Ни в чем, что было дано, он не сомневался никогда и не любил лишь многих решений одной и той же задачи. В аккуратных тетрадях Иноземцева, исписанных крупным и красивым почерком, против каждой болезни было написано лечение, и притом только одно – такое, которое в данное время считалось самым рациональным. Со вниманием Иноземцев следил за всем тем, что происходит в медицине, и как только слышал о новом средстве, о декокте, о микстуре, о каплях или о паровых ваннах, тотчас же заменял лечение в тетрадке – поверх старого наклеивал бумажку с новым. Лечить он любил, и если заболевал кто-нибудь из знакомых, то Иноземцев непременно прописывал микстуру, или капли, или порошки, причем так, чтобы на лечение у больного уходило много времени: уж если микстура – то ее принимать семь раз в день, и не просто взболтать перед тем, как проглотить ложку, а обязательно, например, развести в полустакане горячих сливок и пить небольшими глотками, а иначе не будет никакой пользы.
Великолепно учась и делая в науках блестящие успехи, Иноземцев вместе с тем никогда не отвлекался от двух задач, поставленных им самому себе: лечить людей и учить студентов, как лечить. Каждое занятие приносило ему в этом пользу. Высокие материи не трогали его воображения – наука была для него делом и средством для дела, с ее помощью он ничего не собирался ни решать, ни определять, а только хотел научиться применять ее в будущей своей жизни.
Про себя Мойер не раз отмечал, как раздражали Иноземцева бесцельные, по его мнению, споры, которые вдруг заводил Пирогов со своим учителем по поводу совершенно отвлеченному, если такой повод может найтись в анатомии.
– Ну хорошо, – говорил Иноземцев, – но вам-то что, Пирогов, зачем это вам вдруг понадобилось?
Пирогов хлопал глазами, потому что не мог ответить, зачем это ему вдруг понадобилось, а Мойер тонко улыбался и с нежностью поглядывал на своего любимца.
Любимец этот вытворял бог знает что, вместо того чтобы хорошо или хотя бы терпимо учиться. Впившись мертвой хваткой в анатомию и хирургию, он совершенно забросил все другие предметы и в один прекрасный день просто-напросто перестал посещать какие бы то ни было лекции. Это совпало с началом его занятий вивисекцией. Из жалких своих грошей он, недоедая, накопил денег на то, чтобы снять кирпичный сарайчик под черепичной крышей, и на то, чтобы купить себе двух телят, безногую собаку и барана. Университетский столяр построил ему по его чертежам стол, и пошла работа.
Несколько раз к нему в сарай приходил Мойер, садился в угол на чурбан, закуривал сигару и подолгу, не произнося ни единого слова, следил за упражнениями своего ученика – перепачканного кровью, грязного и одержимого. Из экономии Пирогов на больших животных пока что вовсе не упражнялся, а покупал у мальчишек крыс и крошил их. Крысы стоили дешево, мальчишки создали для него целый промысел и таскали ему столько пасюков, что он в конце концов совсем разорился, хоть и платил за хорошую крысу не больше копейки. Телят же и барана он берег, не надеясь купить еще, но их всех надо было кормить, еда стоила денег, и Пирогов совсем растерялся. Телята росли и жрали неимоверно много, в болтушку телятам полагалось наливать молоко, и он покупал им молоко и завидовал им – он сам очень любил чай с молоком и раньше пил такой чай, а теперь довольствовался шалфеем.
Однажды, сидя на своем чурбане в углу сарая, Мойер сказал Пирогову, что с крысами он довольно возился, что теперь пора приниматься за телят и за собаку, а кроме того, что пора перестать экспериментировать просто так, надобно отыскать себе тему для эксперимента – тогда пойдет лучше, и предложил тему.