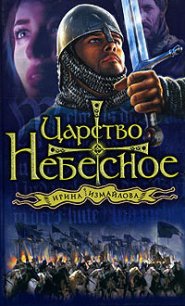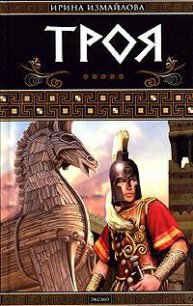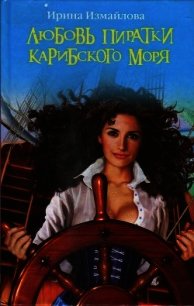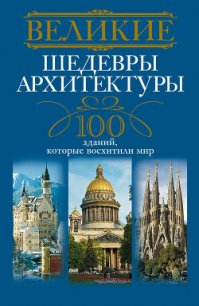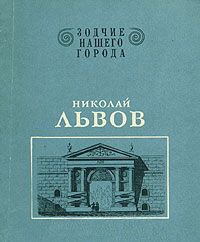Собор - Измайлова Ирина Александровна (лучшие книги онлайн txt) 📗
— Вам кланяется, — проговорил Миша, — ваша тетушка, сестра вашего отца, мадемуазель Рикар.
— Жозефина?!! — от изумления Огюст чуть не лишился дара речи. — Она жива?! Боже мой! Но я уже лет двадцать не получал от нее писем… Я думал… Сколько же ей теперь лет, а?
— Ей исполнилось девяносто три года, — сказал молодой человек, улыбаясь. — Она не писала потому, что у нее несколько лет очень болели глаза. Теперь она видит лучше, но сказала, что сразу написать вам не может: волнуется. Очень ждет от вас хоть несколько строчек и зовет вас, вы меня простите, «мой милый мальчик»
— Дорогая моя тетя Жозефина! — прошептал Огюст, по старой, почти забытой привычке взъерошивая пальцами волосы у себя на висках. — Мог ли я думать? Самый близкий мне человек после моей матушки… Моя защитница, моя покровительница! Господи, какая радость! Где же ты нашел ее, Мишель? Ведь нашего домика в Шайо больше нет.
— Я нашел ее случайно, — сказал Миша. — Прочитал объявление в газете о том, что мадемуазель Рикар сдает комнату на бульваре Капуцинов. Не знаю… Фамилия распространенная, но отчего-то я подумал. И зашел к ней. Так вот мы познакомились. Она все расспрашивала о вас, восхищалась тем, что вы так знамениты, и я ей на прощание нарисовал Исаакиевский собор… Вы ей напишете?
— Сегодня же напишу! — воскликнул Огюст. — Сегодня же… Какое неожиданное счастье! Какой подарок! Спасибо тебе, Мишель.
— Подарок я вам привез еще один, — проговорил, помолчав, Миша. — Не знаю вот только, как преподнести. Погодите минуту!
Он быстро вышел из кабинета и вернулся через несколько минут с большой плоской коробкой в руках. Коробка была из синего сафьяна, старая, вся истертая.
— Возьмите, Август Августович, прошу вас, — с каким-то странным выражением лица молодой человек подал коробку своему учителю.
— Что это, Миша?
Огюст открыл небольшой серебряный замочек и приподнял крышку. В коробке лежали два старинных длинноствольных пистолета, украшенных насечками и позолотой. На крышке, с внутренней стороны, можно было разобрать полусмазанную, потускневшую надпись на французском языке: «Огюсту Рикару, лучшему стрелку 9-го конногвардейского полка и одному из самых отважных его солдат от генерала Шенье».
Несколько мгновений Огюст молча смотрел на эту надпись, на это некогда подаренное ему оружие, и перед ним оживала ясно, во всех подробностях, чудовищная сцена, произошедшая почти сорок лет назад. Летняя лесная поляна, выстрелы, кровь на дверце кареты…
Наконец архитектор поднял голову и молча, посмотрел в глаза Михаилу.
Тот не отвел взгляда.
— В Париже я встретил случайно одного человека, — проговорил он. — Мы на выставке познакомились живописной… Он русский. Ему теперь тридцать лет, он врач и приехал ради практики у одного профессора, прежнего своего учителя. Я предположил, что он хочет клиентуру в Петербурге иметь, а он в ответ пожал плечами и сухо так возразил: «Нет, сударь мой, я, вернее всего, в деревне больницу строить буду. Там нужнее». Я удивился: «Зачем тогда практика в Париже?..» Он мне пояснил: «В сельской местности у нас, юноша, одна больница на сотни верст бывает, и врачу в ней надобно быть умнее ста профессоров, не то больше сгубит людей, чем спасет». А потом потемнел и добавил: «У меня перед народом своим долг большой…» Я возьми и скажи с жаром, как у нас, бывает, говорят: «Перед народом долг у всех, сударь!» Тут его передернуло, он резко ко мне повернулся (а мы уже вдвоем в кафе сидели), посмотрел в глаза и говорит: «У вас, я вижу, чистейший парижский выговор. Ваши родители, простите, кто?» Я ответил: «Отец — бывший крепостной крестьянин, ныне в Петербурге служит, а матушка — дочь каменных дел мастера. А что такое?» Он смутился: «Извините, не думал… Ну, а мой батюшка имел восемьсот душ крепостных, имение большое. Мне десять лет было, когда он богу душу отдал, но я помню, как он людей проигрывал в карты, дарил в пьяном разгуле соседям-приятелям, как кухарке на ноги кипяток выплеснул за то, что не заметила его сразу, когда он в кухню вошел, и не поклонилась… После его смерти все имение и все крепостные с молотка пошли… Мы с матушкой остались нищими. Я в люди выбивался сам. Однако про долг, отцом оставленный, помнил и помню ныне. Вот оттого-то и выбор мой, юноша…» Потом спросил, кто я и чем собираюсь отечество прославлять. А мы, знаете, Август Августович, сразу-то представились друг другу только по имени-отчеству…
Я сказал, что в будущем стану архитектором, и между прочим упомянул, что учусь у вас. Тут он вдруг побледнел, даже глаз у него задергался. Я говорю: «Что с вами?» А он: «Ничего. Глаз дергается опять же в наследство от папеньки, потому как папенька пил, а бледен почему — сейчас поймете… Вашего батюшку как зовут?» Я сказал. Тогда он встал и говорит: «Я очень прошу вас, Михаил Алексеевич, ко мне нынче же заехать. Через пару дней мне с профессором моим надобно в Цюрих ехать, а я должен вам передать кое-что». И добавил потом: «Для господина Монферрана». Я очень удивился, честное слово. Приехали мы к нему. Живет он в крохотной квартирке в Латинском квартале. Книг много, мебели мало. Он из шкафа достал эту коробку и мне подает: «Много лет я хотел сам отнести, да вот боялся… Боялся, что в доме господина Монферрана встречу вашего батюшку и он мне в глаза посмотрит… Меня зовут Петр Антонович, я вам назвался, да не называл фамилии. Сухоруков». Тут я и понял. «А как, — говорю, — вы узнали? Это ведь до вашего рождения было!» Он усмехнулся: «Отец не раз рассказывал приятелям, хвастался и пистолеты показывал. Да прибавлял: «Вот ведь он теперь Исаакиевский собор строит, знаменитость, а я у него за болвана-мужика такие дивные вещи купил!» Говорит и так мне в лицо смотрит, будто ждет, что я ударю его… А у меня внутри все горело от стыда и от жалости. Мне его жалко было. За что же ему-то такая казнь? Он же человек! А он продолжает: «Потом я наводил справки, узнал, где живет господин Монферран, хотел к нему поехать, да вот узнал фамилию его управляющего… Прошу вас, Михаил Алексеевич, если после моего рассказа вы не потеряли ко мне уважения, передайте вашему учителю его боевую награду!» «Передам», — говорю и протягиваю ему руку. А у него лицо суровое такое, он и улыбается редко, а тут улыбнулся, и в глазах — слезы. Жалко, да?
— Нет, — твердо возразил Монферран. — Не надо его жалеть. Он человек сильный, его можно уважать.
— Я его уважаю… Но гадко-то как помнить про такое прошлое, про то, что оно было и есть. Только вы не подумайте, — и тут Миша покраснел, — не подумайте, что я за отца стыжусь!
— Я понимаю, милый, понимаю! — Огюст обнял юношу и крепко прижал его к себе. — Вовсе не стыдно знать, что твой отец когда-то был рабом. Стыдно сознавать себя гражданином и патриотом страны, в которой и поныне есть рабство. И тебе, и Петру этому, и мне…
— Август Августович! — вскрикнул Миша. — Вы…
— Да, — грустно улыбаясь, сказал архитектор. — Я никогда этого не говорил, и ты не знал, что я об этом думаю, Мишель… Я старался не портить своих отношений с миром и с обществом. И с самим собою, я ведь — существо сложное… и трусоватое, что уж говорить! А слова ко многому обязывают, болтунов я ненавижу. Но теперь я говорю правду, ибо уже ничего не боюсь. И тебе лгать не стану: ты сын человека, который всю жизнь был моим нравственным зеркалом.
Он приподнял руку, провел по Мишиным каштановым кудрям ладонью, разворошил их пальцами, всматриваясь в его красивое лицо, в котором, несмотря на различие черт, было столько неуловимого сходства с ним. Потом опять заговорил.
— Я вижу, Миша, ты — настоящий гражданин, ты любишь Россию. Я тоже люблю ее, хотя и сложнее, ведь я ее вечный должник. Она приютила меня, научила работать, бороться, страдать и побеждать. Но у меня есть и вторая Родина. Ты видел ее… Родина, где почти никто не знает моего имени. Я сам сделал когда-то выбор, и я ни о чем не жалею, думаю — выбор был правилен. Но мне хочется, мой мальчик, мой друг, чтобы для тебя судьба и Родина были едины. Сейчас и навеки. Пусть тяжелая судьба. Пусть горькая Родина… Понимаешь меня?