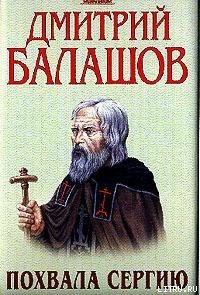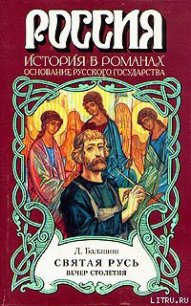Отречение - Балашов Дмитрий Михайлович (читать книги онлайн бесплатно полностью без TXT) 📗
Вечером четвертого дня Кейстут долго спорил с Ольгердом в его шатре.
— Я не могу ради тверского князя губить здесь, под Любутском, литовскую рать! — кричал Ольгерд, со злостью глядя на непонятливого брата, коему он стеснялся сказать всю правду. — Ты пробовал перейти Оку? Там всюду московские заставы! У них челны, у них наплавной мост, они перейдут на ту сторону раньше нас! Вести полки к Туле? А потом? У наших ратников кончается хлеб! Коней я могу кормить несжатою рожью, но не ратных!
— Зачем же мы сюда пришли?! — мрачно спросил Кейстут, исподлобья глядя на брата.
— Зачем… Заключить вечный мир! Я не могу воевать одновременно с Русью и немцами! Все прочее пусть решают Михайло с Дмитрием сами!
— Ты не хочешь больше помогать шурину? — тихо вопросил Кейстут.
— Да, не хочу! — отозвался Ольгерд, глядя мимо братнего лица. — Он и так захватил слишком много!
За шатром гомонили ратные. Кейстут, высокий, худой, молча встал и, склонясь, вышел из шатра. Ольгерд повалился на кошмы, сожидая, когда войдет мальчик-слуга. Выговорил сквозь зубы, зная, что его не услышит никто:
— И кроме того, Кейстут, я и сам не хочу погибнуть здесь, на Оке, ради дел своего безумного шурина!
Назавтра начались переговоры. Бояре, те и другие, несколько раз перебирались через овраг, уряжая статьи нового мирного договора, почти сходного с предыдущим, по крайней мере в том, что Ольгерд, заключая мир с московским князем, отступался от своего тверского шурина, предоставляя решение всех порубежных споров суду самих владимирских князей, Михайлы с Дмитрием.
Полки уходили с береженьем, опасаясь погони. Впрочем, москвичи так же береглись Ольгерда, как и он их, и преследовать литву не стали. Тверской князь уводил свои рати особо и шел быстрыми переходами, выматывая коней, дабы воротить в Тверь раньше, чем москвичи сумеют двинуть полки под Дмитров. Но московские рати, достигшие Москвы хоть и много ранее возвращенья Михайлы во Тверь, в новый поход не тронулись. И не мирный договор, а тайная грамота, присланная из Орды Федором Кошкою, была тому виною.
Ванята возвращался из похода гордый. Он — сам! — взял в полон литвина. (Ежели быть точным… Но уж очень точным кто захотел бы быть после такого дела в его возрасте?!) В полях жали. Уже далеко протянулись ряды золотистых бабок сжатого хлеба. И мать жала. Ему указали, где. Наталья, охнув, распрямилась и сунула в рот обрезанный серпом палец.
— Живой! — уронила серп, обнимая спрыгнувшего с коня сына. Едва не потеряла сознания: живой!
— Мамо! А я литвина в полон забрал! — похвастал Ванята, и она, глядя в его разгоревшееся, покрытое веснушками, обожженное ветром лицо, заплакала. А кругом уже столпились побросавшие работу бабы.
— Ну вот, боярыня, живой! Неча и горевать было! Подь, подь домой, кака уж тут работа седни для тебя!
Она кивнула и, не чуя радостных слез, пошла к деревне, оступаясь босыми ногами на колком жнивье. Сын, ведя коня в поводу, шел рядом.
ГЛАВА 57
Сидели не в большой думной палате, а в тесной горнице княжеских хором. Дума не дума, а собрались «вернейшие паче прочих». Четверо Вельяминовых. Василий Василич тяжко сидит на лавке, его мучает грудная болесть, но таковое дело без тысяцкого не решить. Тимофей Василич, окольничий, глядится нынче куда моложе и крепче брата. Иван Федорович Воронец и Микула Василич вдвоем являют собою второе поколение Вельяминовых. Ивана нет, Дмитрий сам настоял, чтобы позвали отца, а не сына, и князю не стали перечить. Семен Жеребец и Федор Андреич Свибло представляют здесь могущественные семьи Кобылиных и Акинфичей. Матвей Федорович с племянником Данилою Феофанычем — оба заматерелые, оба в сединах — митрополичий род бояр Бяконтовых. Митяй, князев печатник, созванный волею князя, сопит; он крупен, велик, красен лицом, подозрительно взглядывает на сухого, согбенного в кресле митрополита, который не глядит на Митяя, но не глядит нарочито: меж ним и коломенским попом, вошедшим в силу при молодом князе, нелюбие возрастает год от году, и нелюбие самого безнадежного свойства. Алексий не выносит громогласности, чревной силы и отягощенного книжными украсами ума княжеского печатника; Митяй не понимает всех вообще молчальников-исихастов. «Почто и даден Господом разум человеку, дабы не молчать, но разумно глаголати!» — как-то высказал он прилюдно, при князе, когда речь зашла о старце Исаакии, ученике Сергия Радонежского. Не понимал исихастов Митяй! И, будь дело в Константинополе четверть века тому назад, поддержал бы, поди, Варлаама с Акиндиным против Григория Паламы. Он любил красоту службы и понимал в ней премного, мог страницами цитировать на память святых отцов. Любил обильную трапезу и тоже понимал, как никто, в изысканных яствах и питиях различных земель, нимало того не скрывая. Охотно выезжал с князем на соколиную охоту. И монастыри ему нравились те, где мог, по его словам; «муж нарочит упокоить себя от трудов и суеты на старости лет», где в келье удалившегося от дел боярина были бы слуги и весь привычный и богатый жизненный обиход. На дух не принимал он поэтому ни Сергия, ни племянника его Федора Симоновского, полагая глупцом и тунеядцем каждого смысленого мужа, удалившего себя, заместо служения князю, куда-то в гиблые леса и болота, на съедение комарью… Медведям, что ли, Ивана Златоустого читать?!
Теперь Митяй, шумно вздыхая, изредка взглядывает в сторону митрополита Алексия, пошевеливает руками, все не ведая, как ловчее уложить крупные длани с драгим золотым перстнем на левой руке, и тихо негодуя суровому невниманию митрополита.
Иван Мороз, Иван Дмитрич Красный-Зернов, Андрей Одинец, Александр Всеволож сидят тесно по лавкам, вперяя очи в князя. В самом углу Дмитрий Боброк. Давеча Дуня намекнула Дмитрию, что Боброк вдовец, а Нюша, сестра Дмитрия, уже на выданье, и великий князь, мгновеньями отвлекаясь от дела, разглядывает по-новому чеканный лик волынского воеводы.
— Женишь на Анне, верный из верных будет тебе! — сказала давеча Дуня, и теперь Дмитрий, хмурясь, исподлобья, украдкою изучает возможного своего шурина. Красив! И не сказать, чтобы стар! Поди, Дуня с сестрой уже и промеж себя сговорили!
— Одним махом кончить войну! — произносит вслух Иван Мороз. Боброк молчит, хмурит густые брови. Ему затея не по нраву, хотя и отрекаться от нее смысла нет. Федор Кошка не стал бы баять пустого.
Алексий взглядывает исподлобья, медлит. Взгляд его строг, но он тоже не думает сказать «нет» и озабочен лишь тем, где взять эдакую прорву серебра. Десять тысяч! Москву из камени построить мочно и всю рать заново вооружить!
— Десять тысячей серебра! — раздумчиво повторяет Зернов. — Ежели всех бояр упросить…
— Стефан Комнин обещает заем от греческих гостей-сурожан в четыре тысячи! — строго отвечает Алексий, сверкнув взором, и вновь склоняет сухую лобастую голову.
— Заемное серебро дорого, да и не достанет все одно! Ежели объявить бор по волости? — предлагает Александр Всеволож.
— Народ оскудел! — твердо и кратко возражает Иван Мороз. Тяжкий прошедший год и дань, которую собирали, дабы удоволить княжеских должников прошлою осенью, помнятся всем.
Окольничий Тимофей Вельяминов яро ерошит волосы.
— Посад надобно потрясти! Не может того быть, чтобы не набрали! Ты как, Василий? — обращается он к брату. Тысяцкий смотрит, думает, с хрипом выдыхая воздух из больной груди. Чуется, что он уже «там» и больше слушает себя самого, чем окружающих. Но и он, пересиливая немощь плоти, склоняет багровую шею.
— Тысячи две на посаде соберем! — говорит, подумав. И тоже — не ведая явно иной неудоби, а токмо трудноту насущную от тягостей недавнего литовского разора и летошнего голода.
— Сколько может дать церковь?! — спрашивает Митяй, на сей раз заставив митрополита взглянуть на него.
— Церковь — даст… — Алексий обжигает мгновенным взором своего супротивника и вновь потупляет очи. Все московские великие бояре ведают, что об ином владыку спрашивать непристойно, один Митяй все еще этого не может постичь.