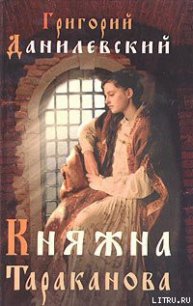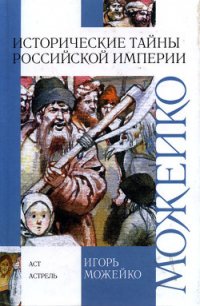Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин" (читать полную версию книги .TXT, .FB2) 📗
Заметив такую страстную восторженность Доманского, Голицын подумал: не в силах ли он иметь на неё влияние? Но этот вопрос тогда так и остался вопросом. Теперь же, когда она, слабая, больная, лежала, едва сознавая себя, он подумал:
«Нельзя ли воспользоваться такой восторженностью одного из её поклонников?»
Он пошёл к ней. Но при первых же словах он убедился, что нет, не Доманскому было влиять на эту, казалось, мягкую, нежную, но в то же время железную натуру. В ответ на фразу князя о Доманском она сказала:
— Я знаю, что он, и не один он, за меня голову положить готов, но... князь, неужели вы находите, что он мне соответствует, что он мне пара?
Князь пожал плечами и вынужден был замолчать.
Началась опять речь о её происхождении.
— Уверяю вас, князь, что я сказала всё, что знала о себе. Твёрдое сознание своего положения я получила только в иезуитском коллегиуме. До того Же мне много говорили о родителях, но я их не видала, если не считать свидания с той прекрасной дамой в Петербурге, которая называла меня своей дочерью, но о которой, кто она в действительности, я ничего не знала.
Голицын, отвергая это показание, называя его вымыслом, сказал, что если она укажет на действительность, то он выпросит у императрицы дозволение отправить её в Оберштейн.
При этих словах глазки Али-Эметэ оживились, но потом она вздохнула и проговорила грустно:
— Но чего же вы хотите, князь? Хотите ли вы, чтобы я что-нибудь выдумала?
— Вы напрасно скрываете своё происхождение, — возражал Голицын. — Я о нём знаю. Английский посланник писал мне, расспросив подробно лорда Кейта. Вы дочь пражского трактирщика!
Али-Эметэ вспыхнула. Несмотря на свою крайнюю слабость, она приподнялась на постели. Яркие пятна болезненного румянца обозначились на её щеках.
— Князь, — сказала она после минутного молчания, — я слишком уважаю доброту вашу, несмотря на принятые вами против меня жестокие меры; я слишком благодарна вам за вашу теперешнюю обо мне заботливость, чтобы я могла позволить себе отвечать вам резко. Но мне кажется, что, несмотря на слабость мою, я готова была бы выцарапать глаза тому, кто вздумал бы меня уверять в моём низком происхождении. Нет, князь, я не знаю, кто были мои родители, жили ли они в России или Персии, но что они высокого происхождения, это несомненно. Из чего же бы лорд Кейт хлопотал, помещая меня в коллегиум, заботился обо мне, устраивал, помогал? К тому же откуда бы явились мне средства, капиталы. Да я никогда и не бывала в Праге.
Князю опять пришлось замолчать.
Она стала говорить о своей болезни, об ужасных минутах, проведённых ею в каземате во время наводнения.
Голицын воспользовался этим и спросил, не желает ли она в минуты тяжких припадков иметь утешение в религии?
— Ах, вы очень бы обязали меня, если бы дозволили! — отвечала Али-Эметэ. — Я бы, по крайней мере, была успокоена совместной молитвой со священником.
— Какого исповедания священника желаете вы иметь?
Али-Эметэ пожелала православного.
Отыскали православного священника, хорошо говорившего по-немецки.
Это был протоиерей Казанского собора, отец Пётр, по фамилии Андреев.
Воспитанник Московской духовной академии, ученик знаменитых Лихудов, но последователь и поклонник известного Мацеевича, пострадавшего за своё письмо к Екатерине, отстаивавшее неприкосновенность монастырских имений, отец Пётр был священник суровый, аскет по призванию и строгий ревнитель буквы.
Он попал в белое духовенство случайно. Будучи бакалавром академии, он влюбился в дочь одного дьякона, женился на ней и сожалел о том целую жизнь, хотя жена досталась ему добрая и послушная.
Он был честолюбив, страшно честолюбив. Кафедра собора, тогда ещё нового, так как приходская церковь Рождества была только недавно преобразована в собор, далеко не удовлетворяла требований его деятельности. Ему хотелось власти, значения; хотелось громить противников, побеждать сопротивляющихся. И он с завистью смотрел на чёрное духовенство, которому предоставлялось всё, тогда как он, по его самомнению, не пользовался ничем. Не раз он убеждал свою жену поступить в монастырь, чтобы самому сделать то же, но та не соглашалась ни за что, ссылаясь на семейство и подводя к нему его маленькую дочь. Поневоле приходилось оставаться тем, кем он был.
По своей требовательности и буквальной точности, он мог быть причислен к разряду тех старообрядческих попов-фанатиков, которые доводили своё поклонение букве до того, что не только сами, но увлекали за собой тысячи на самосожжение.
Вечно хмурый, молчаливый, он вдруг оживлялся и в слове своём метал громы, как только видел отступление от буквы. В преследовании такого отступления он был неумолим как сектант.
Не любил он никого: ни жены, ни детей, ни даже самого себя. Жена ему мешала выполнить своё призвание и занять соответствующее место во главе иерархии; дети напрасно связывали его с миром, а сам он — виновник пред собой в увлечении молодости.
Вот какой человек был выбран для увещевания Али-Эметэ.
Екатерина пожелала говорить с ним. Лично она его не знала. Она видела его только в обрядах служения, видела, можно сказать, только с его казовой стороны. Ей хотелось его узнать запросто, в житейском быту, в его слове собеседника. Она приказала позвать его к себе.
Отец Пётр сидел в это время у себя и сочинял речь для храмового праздника Божией Матери. Он выбрал темой текст: «Несть лести во языце моём» и хотел громить роскошь и отступничество. Вдруг его требуют к государыне.
Отец Пётр, что называется, встрепенулся. Он понял, что тут случай, и решил схватить этот случай хотя бы зубами.
«Воспользуюсь, воспользуюсь, — думал он, собираясь и надевая новую рясу. — Другого случая не будет».
Екатерина, взглянув на сухощавое, суровое лицо представшего перед ней священника, на его сосредоточенный, глубокий взгляд, узкий лоб, обрамленный густыми, длинными волосами, в которых начинала уже показываться проседь, угадала отца Петра как человека с первого взгляда. Она угадала, что его преобладающая, главная страсть была честолюбие и что для удовлетворения этой страсти он не пожалеет ни себя и никого из близких. И она мгновенно решила именно на эту страсть и напереть.
Приняв его благословение, она предложила ему сесть.
Отец Пётр сел, думая: «Воспользуюсь, нужно воспользоваться!»
Екатерина всматривалась ещё в его лицо, стараясь проверить себя и проникнуть в глубину его характера.
Но сколько ни смотрела, она видела в нём только одно честолюбие. В приветствии, которое высказал он, давая ей своё благословение, она нашла полное подтверждение своей мысли.
— Да повергнет Бог под нози твои твоих врагов и супостатов! — сказал отец Пётр, благословляя государыню.
«Это ревнитель духовного преобладания! — подумала Екатерина. — Схоластик и, пожалуй, аскет. Он, вероятно, на основании своих схоластических знаний убеждён, что ему следует стоять чуть не во главе человечества».
Думая это, она вдруг обратилась к нему с вопросом:
— Батюшка, верите ли вы в святость миропомазания?
— С миропомазанием снисходит благодать Божия, поэтому нельзя не верить его святости! — отвечал отец Пётр докторально и с убеждением.
— Если вы верите, то должны верить, что помазанники Божии, Его неисповедимым Промыслом, в мыслях своих направляются иногда к тому, что бывает недоступно для простых людей. В заботливости своей о судьбах мира, Господь ниспосылает тем, кто избран им для управления народами, такого рода указания, которые бывают непостигаемы обыкновенной человеческой мудростью. Поэтому беспрекословное повиновение в исполнении их повелений есть прямой долг, есть исполнение воли Божией.
— Несть власти, иже не от Бога... — начал было говорить отец Пётр и хотел развивать эту тему, но Екатерина перебила его:
— Фельдмаршал Александр Михайлович передал вам мои желания, и я, во имя Божие, прошу вас обдумать и немедленно приступить к делу. Исполнением моего поручения вы заслужите мою особую монаршую признательность!