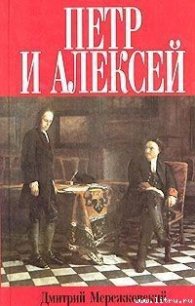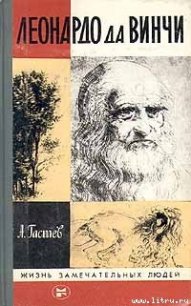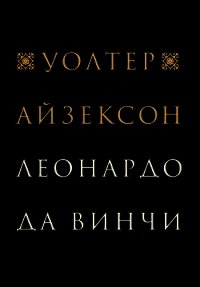Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи - Мережковский Дмитрий Сергеевич (книги без регистрации полные версии txt) 📗
Весной 1517 года происходили в Амбуазе торжества по случаю рождения сына у Франциска I. В крестные отцы приглашен был папа. Он прислал племянника своего, Джулианова брата, Лоренцо Медичи, герцога Урбинского, обрученного с французскою принцессою Мадлен, дочерью герцога Бурбонского.
Среди послов различных государств Европы на эти торжества ожидался и русский – Никита Карачаров из Рима, где находился при дворе его святейшества.
Лев Х давно вступил в сношения с великим князем Московии, Василием Иоанновичем, рассчитывая на него как на могущественного союзника в Лиге европейских держав против султана Селима, который, усилившись после завоевания Египта, грозил нашествием Европе. Папа обольщал себя и другою надеждою – на воссоединение Церквей, и, хотя великий князь ничем не оправдывал этой надежды, Лев Х отправил в Москву двух пронырливых доминиканцев, братьев Шомбергов. Римский первосвященник клялся не нарушать обрядов и догматов Церкви восточной, только бы согласилась Москва признать духовное главенство Рима, обещал утвердить независимого русского патриарха, венчать великого князя королевскою короною и, в случае завоевания Константинополя, уступить ему этот город. Находя выгодными заискивания папы, великий князь отправил к нему двух послов, Дмитрия Герасимова и Никиту Карачарова – того самого, который двадцать лет назад, проездом через Милан, вместе с Данилой Мамыровым, присутствовал на празднике Золотого Века и беседовал с Леонардо о Московии.
Дмитрий Герасимов, по прозвищу Митя Толмач, человек «искусный в священных книгах» и опытный в делах посольских, в молодости своей, по поручению владыки Новгородского, Геннадия, ездил в Италию, «провел два лета, некиих ради нужных изысканий», в Венеции, Риме, Флоренции и привез оттуда в Новгород собранные им сведения по вопросу о трегубой и сугубой аллилуйе, пасхалию на восьмую тысячу лет и знаменитую «Повесть о Белом Клобуке». Впоследствии, уже в глубокой старости, этот самый Герасимов сообщал сведения о России итальянскому писателю Паоло Джовио.
Главная цель русского посольства в Рим выражена была в наказе князя: «добывать в Москву рудознатцев, муролей (зодчих), также мастера хитрого, который бы умел к городам приступать, да другого мастера, который умел бы из пушек стрелять, да каменщика хитрого, который бы умел палаты ставить, да серебряного мастера, который бы умел большие сосуды делать, да чеканить, да писать на сосудах; также добывать лекаря и органного игреца».
Старшим писцом у Карачарова служил подьячий Посольского двора, Илья Потапыч Копыла, старик лет шестидесяти. При нем было двое младших писцов: Евтихий Паисеевич Гагара и двоюродный племянник Ильи Потапыча, Федор Игнатьевич Рудометов, по прозвищу Федька Жареный.
Всех трех сближала любовь к иконописному художеству: Федор и Евтихий сами были добрые мастера, а Илья Потапыч тонкий знаток и ценитель.
Сын бедной вдовы, просвирни при церкви Благовещения в Угличе, Евтихий, после смерти матери остался сиротой, принят был на воспитание пономарем той же церкви, Вассианом Елеазоровым, и в отроческих летах «отдан в научение иконного воображения» некоему старцу Прохору из Городца, человеку праведному, но мастеру неискусному, о котором можно было сказать то же, что сказано в иконописном подлиннике о преподобном Антонии Сийском: «Не хитр был мудростью сею преподобный, но препросто иконописательство его было, более же в посте и в молитве упражнялся, восполняя сими недостаток хитрости».
От старца Прохора перешел Евтихий к иноку Даниле Черному, который расписывал церкви в Спасо-Андрониковом монастыре, – ученику величайшего из древних русских мастеров, Андрея Рублева. Пройдя все ступени науки от услуг «ярыжного» – простого работника, носившего воду, и терщика красок до «знаменщика» – рисовальщика, Евтихий, благодаря природному дару, достиг такого мастерства, что приглашен был в Москву писать «Деисусное тябло» [47] в Мироварной палате патриаршего дома.
Здесь подружился он с Федором Игнатьевичем Рудометовым, Федькою Жареным, тоже молодым иконописцем и «перспективного дела мастером добрым», который расписывал стены той же палаты «травным письмом по золоту».
Рудометов ввел товарища в дом боярина Федора Карпова, жившего у Николы на Болвановке. В хоромах этого боярина Федька писал на потолке – «подволоке» столовой избы «звездочетное небесное движение, двенадцать месяцев и беги небесные», также «бытейские и преоспективные разные притчи» и «цветные и разметные травы», и «левчата», то есть ландшафты, наперекор завету старых мастеров, запрещавших иконописцам изображать какие-либо предметы и лица, кроме священных.
Федор Карпов находился в дружеских сношениях с немцем Николаем Булевым, любимым врачом великого князя Василия Ивановича. Этот Булев, «хульник и латынномудреник», по выражению Максима Грека, «писал развращенно на православную веру», проповедуя соединение церквей. Благочестивые московские люди утверждали, будто бы под влиянием немчина Булева и боярин Федор «залатынился», начал «прилежать звездозаконию, землемерию» – геометрии, «остроумии» – астрономии и чародейству, и чернокнижию, и «многим эллинским баснотворениям», стал держаться книг еретических, церковью отреченных, и «всяких иных составов и мудростей бесовских, которые прелести от Бога отлучают».
Обвиняли его и в ереси жидовской.
Боярин Федор полюбил молодых иконописцев, работавших в доме его, Федьку Рудометова и Тишу Гагару. Полагая, что странствие в чужие земли принесет большую пользу мастерству их, он выхлопотал им должности младших писцов при Посольском дворе.
Уже в Москве, в доме Карпова, среди заморских диковин, отреченных книг и вольнодумных толков об учении жидовствующих, Федька пошатнулся в вере. А в чужой земле, среди чудес тогдашних итальянских городов, Венеции, Милана, Рима, Флоренции, окончательно сбился с толку, потерял голову и жил в непрестанном изумлении, «исступлении ума», как выражался Илья Потапыч. С одинаковым благоговением посещал игорные вертепы, книгохранилища, древние соборы и притоны разврата. Кидался на все с любопытством ребенка, с жадностью варвара. Учился латинскому языку и мечтал нарядиться во фряжеское [48] платье, даже сбрить усы и бороду, что почиталось грехом смертным. «Ежели кто бороду сбреет и так умрет, – предостерегал племянника Илья Потапыч, – недостоит над ним служить, ни сорокоустия петь, ни просвиры, ни свечи по нем в церковь приносить. С неверными да причтется, образ мужеский растлевающий, женам блудовидным уподобляющийся, или котам и псам, которые усы имеют простертые, брад же не имеют».
В разговорах начал Федька употреблять без нужды иноземные слова. Хвастал познаниями, «высокоумничал», рассуждал об «алхиме?и» – «как делать золото», о диалектике – «что? есть препинательное толкование, коим изыскуется истина», о «софистикии, открывающей едва постижное естеству человеческому».
– На Москве людей нет, – жаловался Евтихию, – все люд глупый, жить не с кем.
Будучи навеселе, любил «пытать о вере и простирать вопросы недоуменные».
– Я учился философству, и на меня находит гордость, – признавался он, – я знаю все везде, где что ни делается!
И доходил до такого вольнодумства в этих пытаниях о вере, что, не довольствуясь «софистикией» чужеземною, проповедывал еще более крайние мнения собственных русских философов, последователей жидовской ереси, доказывавших, что Иисус Христос не родился, когда же родится, то Сыном Божиим наречется, «не по существу, а по благодати», – «кого же называют христиане Иисусом Христом Богом, тот простой человек, а не Бог, умер и во гробе истлел»; утверждавших, что ни иконам, ни кресту, ни чаше поклоняться не подобает, «почитать достоит, поклоняться же не подобает ничему, разве единому Богу», и никаким земным властям повиноваться не следует. Федька приводит также слова о бессмертии души и о загробной жизни, которые приписывались соблазненному будто бы в ересь жидовствующих, московскому митрополиту Зосиме:
47
Деису с – икона или фреска, на которой изображаются: в центре – Христос, справа от Него – Богоматерь, слева – Иоанн Креститель.
Тябло – ряд икон.
48
Итальянское (устар. ).