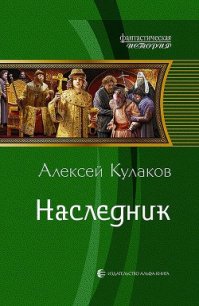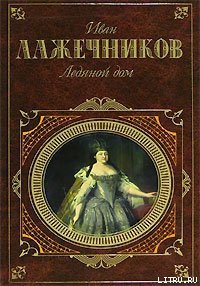Басурман - Лажечников Иван Иванович (читать книги бесплатно полностью txt) 📗
На полавочнике были вышиты львы, терзающие змея, а на алтабасной (парчевой) колодке двуглавый орел. Эта новинка не избегла замечания великого князя: черные очи его зажглись удовольствием. Долго любовался он державными зверями и птицею и, прежде нежели сел на скамейку и с бережью положил ногу на колодку, ласково сказал:
– И ты ныне, старый пес, видно, сговорился с Фоминишной потешить меня!
Дворецкий низко поклонился, охолив кулаком свою ощипанную, остроконечную бородку.
– Ох, ох! – продолжал великий князь. – Легко припасти все эти царские снадобья, обкласть себя суконными львами и алтабасными орлами, заставить попугаев величать себя чем душе угодно; да настоящим-то царем, словом и делом, быть нелегко! Сам ведаешь, чего мне стоит возиться с роденькой. Засели за большой стол на больших местах да крохоборничают! И лжицы не даю, и ковшами обносят, а все себе сидят, будто приросли к одним местам.
– Что ж, господине, коли чести не знают…
– Так по шапке, да из-за стола вон! Воистину так, пора… пускай себе кричат: греха не ставит, родных обирает… даст на том свете ответ. Нет, не дам. Прежде, нежели я брат, дядя, шурин, я государь всея Руси. Когда явлюсь на Страшный суд Христов, он, наверно, спросит меня: печаловался ли ты о земле русской, над которою я поставил тебя владыкою и отцом, соединил ли воедино, укрепил ли эту Русь, хилую, разрозненную, ободранную? Вот что спросит он, а не то, что пил ли из одного ковша с братьями и сватьями, тешил ли их, гладил ли по головке за то, что они с своими и чужими сосали кровь русскую!
Иван Васильевич замолчал и посмотрел на дворецкого, как бы вызывая его на ответ.
Этот понял его и сказал с низким поклоном:
– Пожалуй меня, господине, князь великий, своего слугу, молвить глупое слово.
– Молви умное, а за глупое скажу тебе дурака.
Опять поклон; Русалка приправил его следующею речью:
– Вступающим в брак господь наказывает оставить отца своего и матерь и прилепиться к жене. В такой же брак вступил и ты, государь всея Руси, приняв по рождению и от святительской руки в дому божьем благословение на царство. Приложение сделай сам, господине! Умнее на твою речь сказать не сумею: я не дьяк и не грамотей.
– Грамота у тебя в голове, Михайло!.. Ладно!..
Произнося последнее слово, великий князь оперся подбородком на руки, скрещенные на посохе, и погрузился в глубокую думу. Так пробыл он несколько минут, в которые дворецкий не смел пошевелиться. Нельзя сказать, что в эти минуты тихий ангел налетел; нет, в них пролетел грозный дух брани. Решена судьба Твери, бывшей сильной соперницы Москвы.
Наконец Иван Васильевич сказал:
– Позови ко мне Мамона и дьяков моих.
Приказ этот был немедленно исполнен. Дворецкий тотчас возвратился с своим приятелем, нам уже известным, и тремя новыми лицами.
Глава VI
ДОМОСТРОИТЕЛЬ И ДОМОЧАДЦЫ
Вился, вился ярый хмель,
Слава!
Около тычинки серебряныя,
Слава!
Так бы вились князья и бояре.
Слава!
Около царя православного,
Слава!
Вошедши в брусяную избу, все они сотворили крестные знамения перед образом Спасителя, потом низко-пренизко поклонились великому князю. Казалось, по росту их, вышли они один из другого, как дорожный прибор стаканов. Самый большой был дьяк Федор Курицын. Это был мужчина целою головою выше Мамона, лет под пятьдесят, но казался старее своих лет. Непрерывные умственные заботы и труды сгорбили его и изнурили до болезненного состояния. На обнаженной голове оставались только за ушми, будто для образчика, две-три пары осиротевших русых локонов; лицо его изнывало, но мутные глаза издавали огонь ума; на изрытом челе господь, видимо, утвердил знамение высоких помыслов. Его употреблял великий князь по делам дипломатическим. За ним следовал Мамон. Потом дьяк Володимер Елизаров Гусев, делец, законник, достойный памяти потомства за сочинение «Судебника». Остального точно выпустили из пазухи Курицына: такой он был крохотный. Может быть, в стране лилипутов поставили бы его фланговым в гвардию; немудрено, что он прослыл бы там и великим человеком, потому что имел бы чем давить меньших. Но между нашими огромными современниками пришелся бы мелкому егерю под мышку. Так-то все сравнительно получает название! За то одна часть его помрачала целое. Он едва ли не осуществил карликов наших сказок, о которых говорится, что они с ноготок, а борода у них с локоток. Исполинская, дивная борода! По ней дьяк и назван был Бородатым. Не думайте, однако ж, что все достоинства его ограничивались этим волосяным украшением. Нет, он сохранил и до нас свое имя другими качествами, а именно: умел говорить по летописцам, которых твердо изучил, так что с выученного не сбила бы его пушка, и красно по-тогдашнему, то есть витиевато и напыщенно, описывал походы своего господина. Ему же поручено было обучение придворного клира духовному пению – как говорит историк не наших времен: «На разные роды древнего доброгласия». Одним словом, это был придворный человек-колибри: пел сладко, не тяготил ветки, на которую садился, и был счастлив на своем гнездышке, не боясь, что за ним погонится коршун, которому от него нечем было поживиться.
– Ну, что… дело с литвинами? – грозно спросил Мамона великий князь. Очи его вызывали на кровавый ответ.
– И князь Лукомский, и толмач его Матифас показали, что хотели отравить тебя по насылу Казимира, – отвечал Мамон с твердостью. – Пытал я давать зелья лихим бабам; от одного макова зернышка пучило их, а собаку разорвало.
Иван Васильевич скинул тафью, перекрестился и произнес с благоговением, смотря на образа Спасителя:
– Благодарю тя, бога и спаса моего, что сподобил меня, своего грешного раба, избавиться от насильственной смерти. – Потом, лизнув перстень свой «Кердечень», присовокупил: – Спасибо и Менгли-Гирею!.. А то, пожалуй, далеко ли дьяволу до наущения, и через кровных подсыпят. Ныне своих бойся более чужих.
– Помилуй, государь, отец наш! допустим ли мы, твои верные холопы! – воскликнули в один голос дворецкий и Мамон.
– Око господне блюдет законных владык, – сказал Гусев. – Тебя же особо, господине, князь великий, для устроения и блага Руси.
И крохотный дьяк Бородатый пропел в нос свой панегирик.
Курицын молчал.
Казалось, Иван Васильевич не слыхал уверений своих царедворцев и продолжал:
– Превысокий, благородный, славный краль!.. христианский краль!.. Хуже бесермена!.. Не берет силою, так зелием… Посмей отныне лаять, что я затеваю с ним размирье из корысти, хоть и без того было бы что поговорить о правах моих на древнюю отчину нашу, Литву!.. Смотри, однако, Мамон, не было ли кривды в твоем допросе? не мстил ли, не дружил ли ты кому?
– Целовали со мною крест семь добрых видоков, детей боярских. Не согрешили ни перед богом, ни перед тобою, господине!
– Ладно!.. А что, Володимер Елизарович, какое наказание положено по твоему судебнику тому лихому человеку, что посягает на чужую голову?
– В судебнике уложено, – отвечал Гусев: – «А доведут на кого татьбу, или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное лихое дело, и будет ведомо лихой, и боярину того велети казнити смертною казнью, а исцево доправити; а что ся останет, ино то боярину и дьяку…»
– Законники, во-первых, о себе помнят. Небось о пошлинах боярину и дьяку не забыли! Написано ли что у тебя о государском убойце и крамольниках?
– И в помышлении такого случая не имел.
– То-то!.. Вы, законники, все пишете листы за листом, да не дописываете. А там судьи праведные начнут пополнять, да пояснять, да посулы брать за темные недосказы. Закон должен быть уложен, словно открытая ладонь, без перстаницы (великий князь развернул свой кулак); всякий темный человек довидит, что на ней, и зернышко маково не укроется. Коротка, да ясна, и, коли нужно, сильно хватает!.. А то, пожалуй, наденут на закон дырявую рукавицу, да еще сожмут в кулак: отгадывай, чет или нечет! Покажут то или другое, коли надо!