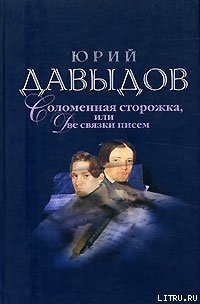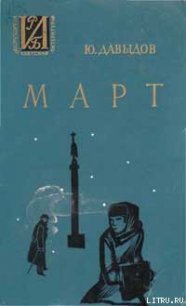Глухая пора листопада - Давыдов Юрий Владимирович (библиотека книг бесплатно без регистрации txt) 📗
А покамест – однотомник.
«Державин» написан почти полвека назад. Ты заглядывал в бездну соотношений судьбы и поэта, гения и злодейства. Не романизированная биография. И уж, конечно, не бойкое изложение материалов, некогда представленных усердным академиком Гротом. Что же? Энергичный дебют, изобилующий острыми ситуациями и пронизанный током высокого напряжения. Подчеркивать молодость автора – значит взывать к снисходительности. Незачем! Ты сам, пусть и годы спустя, сам при первой возможности объяснил на страницах журнала «Простор»: я «не дописал, не хватило ни сил, ни умения». Допустим, так. Но идея – преображающая сила творчества, власть творенья над творцом – идея эта зрима, как горный кряж.
После публикации «Державина» минуло лет двадцать. На Кузнецком мосту распродавали «Обезьяну». Ты напрягся, вытянул шею, ухватился руками за лацканы пиджака. Потом ухмыльнулся: «Ха! Ручейком берут», – и на лице было то выражение, которое я замечал только у тебя: самоирония пополам с удовлетворением – вот, дескать, каков Домбровский…
Роман с интригующим названием «Обезьяна приходит за своим черепом» держал за горло с первого абзаца до последнего. Такие главы, как «Рассказ Курта», потрясали почти физически. Однако главное заключалось не в изображении зверств, а в рассмотрении нагло-изворотливой демагогии нацизма, удушения человека в человеке, бесовской практики в мороке лжеучений.
Профессор Н.Я Берковский прав: интеллектуальная проза, четкая и прозрачная. Трижды прав писатель Степан Злобин, подпольщик лагерей смерти: страстный философско-этический роман; книга сражается, а не декларирует; умная и талантливая, она нужна всем народам; роман будит тревогу, и не учебную, а боевую.
Да, фашизм уже был разбит на полях сражений. Но фашизм еще не был добит в закоулках черепных коробок. Неофашизм – доказательство его живучести. Все та же мохнатая лапа, жаждущая поставить мысль на карачки. И потому роман как был, так и остается не чтивом – корабельным колоколом громкого боя. В минувшем современно то, что не дает, не позволяет закрывать глаза на опыты минувшего. И не допускает утечки исторического оптимизма.
Завершают твой однотомник повести о Шекспире. Завершение, так сказать, полиграфическое. По сути – наивысший виток в твоем постижении художнического гения.
Не знаю, надо ли писателю выходить на космическую орбиту, чтобы видеть космос. Знаю, ему надо входить в микрокосм души человеческой, ибо там – космическое. Космос Шекспира был уделом и делом для тебя пожизненным.
Биографии зависят от географии. Биограф от географии независим. Туристом или командированным можно сто раз вояжировать в Альбион, да так и не разглядеть в его туманах Шекспира. А ты, ни разу не пересекая Ла-Манш, подолгу беседовал с ним.
Говорил товарищам: пишу повести. Говорил: пишу новеллы. Говорил: пищу рассказы. Никогда не говорил: пишу притчи… Написано, издано, переведено на многие языки. Отечественные и зарубежные специалисты выставили высокий балл. Литературовед Эрнест Симмонс поразился стереоскопичности проникновения русского автора в дух елизаветинской эпохи. И ты знаешь, есть, есть она, волна читательского признания. Ты победил точностью научного постижения вкупе с тонкой интуицией. Интуитивны не только чувства, но и ум. Словно фланелью, протирают они линзы науки, а затем лучом, острым и чистым, проницают сумрак времен. Вот так ты высветил лик бессмертного гения и лицо смертного человека.
Мысленно вижу тебя, завершившего последний роман, вижу усталого и спокойного – исполнен долг.
Вспоминая тебя, вспоминаю стихотворную строку: «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были…»
1969 г.
НЕЖНОСТЬ
Критики пытают живых писателей; я не критик. Литературоведы препарируют мертвых; я не литературовед. Читатели, если верить Бунину, поглядывают на писателей сверху вниз. Я – читатель, ясно и резко сознающий невозможность глянуть свысока на прозаика и публициста Алеся Адамовича.
Партизанство, как никакой другой род военных действий, наделяет человека самостояньем, умением и смелостью принимать решение, не дожидаясь указания начальника. Эти свойства, в тоталитарном обществе уникальные, были присущи Алесю. После войны он не примкнул к шустрой ватаге, севшей на руководящие стулья и стульчики. Роль верного помощника партии в литературе ему претила. Тем паче, что, пожалуй, нигде не встречалось столько орясин, как именно среди фельдфебелей литературных подразделений.
Реализм предполагает указания на недостатки имярек. Я, однако, не замечал их, кроме одного: Алесь страдал отвращением к спиртному, чем и повергал многих в недоумение. А меня в глубокое изумление, как нечто фатальное, не имеющее объяснений. Впрочем, весьма возможно, что огненная вода помешала бы его непреходящим, напряженным поискам живой воды. Так, наверное, так. Ведь именно ее, живую воду, черпали мы в его суровой прозе и беспощадной публицистике.
Как человека серьезного, основательного, невеселого, крепкой и тяжеловесной внутренней стати, на дружбу не щедрого, а в дружбе требовательного – таким воспринимало Адамовича мое чувствилище… Это слово – «чувствилище» – встретилось мне однажды в одном из писем Горького, и я решил, что старик, озабоченный приращением могущества родного языка, выдумал это самое слово, на мой слух почему-то созвучное со «страшилищем». Оказалось, что по науке-то это называется – сепсорий. И обозначает ту часть нервной системы, где мельтешат, сталкиваясь и пересекаясь, наши ощущения. Подозреваю, что это и есть душа. А душа, как известно, обязана трудиться. Так-то оно так, да вот нам не дано угадать, что именно и когда вместит чувствилище.
Вот вам пример. Настигла такая минута, когда я совершенно отчетливо осознал, что человек, известный в миру как Алесь Адамович, обладает запасом эмоции, которая казалась мне не свойственной его натуре – НЕЖНОСТЬЮ. Она была услышана мною, как вздох. А ведь и рядом, и дальше на улочке дачного поселка Переделкино ничто не располагало к этому. Разбитый дорожный асфальт, канава с какой-то ржавой дрянью, побежка ничейных псов, всегда голодных, валежник, малинник, кошка, то, се, короче, не угадаешь, не определишь причину веяния его нежности. Но он, бьюсь об заклад, чувствовал именно нежность к этой смиренной, невзрачной обыденщине, к тому, что растет, бежит, попискивает на дереве; словом, к живущему, к живому, сущему. А главное, то была молчаливая нежность. Ведь если нежность глаголет, значит, – см. Псалтырь – в душе-то ее вовсе и нет. А потом… Потом боковым зрением я не то чтобы увидел, что было бы физической невозможностью, нет, не увидел, но ощутил как бы нарастание, усиление его нежности, срастание ее в световой пучок, устремленный поверх дороги… Я взглянул в сторону его дома: у ворот стояла его хозяйка. Ирина. Я знал ее, но, сознавая свою ненужность в эту минуту, смущенно отвалил в сторону, на какую-то тропу. Уверяю вас, он и не заметил моего исчезновения.
О, этот неказистый, небогатый дом, где ей хотелось жить с ним долго, а ему жить и работать у окна, обращенного на огород и елки. Он есть, этот дом, и его нет – мшистый налет Смерти и вот что-то вроде пустоши.
Два года спустя эта женщина, некогда освещенная, озаренная его нежностью, отнесясь ко мне с неизъяснимой доверительностью, показала мне Алесевы письма. И я прочел: «…Ты заполняешь полмира для меня, остальное – тоже ты. Вернее, ты во всем, что вроде мне важно, что делаю, чем занимаюсь… О чем могу мечтать, если не о том, что было, что началось и кончится, наверное уже вместе со мной?!»
А листки в руках Ирины – синие, красные – в зависимости от пасты шариковой ручки… А почерк крупный, без бантиков-завитушек, зависимый от нравственной кладки, от натуры и сущности.
… Все это мне вообразилось, все это возникло при чтении рассказа Алеся Адамовича «Vixi 2». Скажи я это, соврал бы, так сказать литературно. Или как раньше в кинозалах перешептывались: «Это ему снится… Снится ему…» Не возникло, не вообразилось, не вспомнилось. Но было… Было тихим шорохом, мягким гулом – словно бы щекой и ухом припал к большой шершавой морской раковине с крутыми полированными завертками. Может, и там чувствилище?