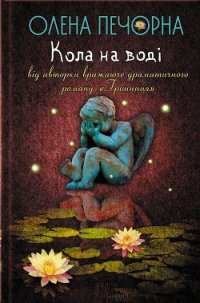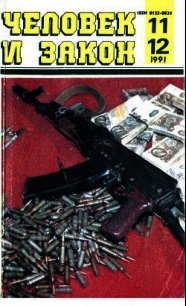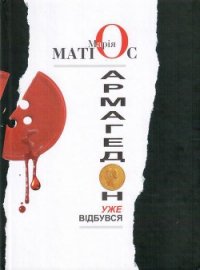Кола - Поляков Борис (библиотека электронных книг txt) 📗
Давит усталость, давит в песок боязнь, а ему выглянуть бы: чего еще можно от корабля ждать? Десант на остров второй раз не пошлют. И от первого вон как дух сперло. В Туломе Пушкарев встретит. Он десанту там от порот поворот покажет. А что они могут еще, кроме этой бомбардировки?
Пушки вдруг смолкли как-то совсем нежданно. За спиной в верхней слободке не бухало, не рвалось, и не вторило больше в вараках эхо. Шешелов еще подождал, не веря, стараясь понять случившееся, и, обеспокоенный, решил взглянуть.
Корабль стоял не бортом к нему, как прежде, а медленно поворачивался кормой. Дым из трубы густой. Шешелов недоверчиво наблюдал, готовый немедленно лечь и опять уползти назад; потом, помогая себе руками, стал карабкаться на берег. Распрямился кряхтя и смотрел на корабль. Похоже, уходит. И принял это как должное. Теперь не сгибаясь можно стоять, ходить. Вокруг пустынно было и тихо. На миг показалось даже, что он оглох. Потом медленно повернулся на шум пожара. Над верхней слободкой гудело сплошное пламя. А ближе слободки и вправо к Туломскому мысу – только одни руины. Крепости больше не было. Исчезли башни ее и стены и все, что связано было с крепостью: Воскресенский собор с приделами, дом почтмейстера, ратуша, казначейство, суд. Магазины сгорели: хлебный, соляной, винный, – цейхгауз инвалидной команды, амбары, склады колян и много других построек. Одиноко и голо торчали печные трубы. Церковь каменная громоздко стояла на пепелище без купола, без крыши. И везде только жаркие груды углей, горящие головни да удушливый едкий дым. Сплошное марево дыма и жара струится над бывшим городом.
Корабль уходил все дальше и дальше. Скоро и видно его не станет.
Максим тоже вылез на берег. Непокрытая голова, мундир измят, грязен. Ружье за ремень волочит по пыли. Постоял рядом с Шешеловым, изможденный, ссутулившийся, провожал долгим взглядом корабль. Погодя сказал, будто Шешелов только что появился в Коле:
— А ведь ни с чем ушел англичанин. Ни с чем... – И задумчиво он смотрел еще вслед кораблю. – Тьфу! Будь ты проклят! – плюнул с горькой досадой и стал доставать кисет.
Когда занялись огнем дома на верхней слободке и далее, к самой Соловараке, пушки смолкли, застучала громче машина в трюме, корабль снялся с якоря и пошел от Монастырского острова, против ветра, без парусов, оставляя пенистый след, к морю.
Матросы стали прибирать палубу, откатывали от борта пушки, крепили их, солдаты чистили ружья, ругались меж собою зло, вспоминая, наверное, Монастырский остров, а Смольков пугливо поозирался, высмотрел, где жердяи, и пошел подальше от них к корме. Ноги трудно его держали.
За трое суток новой жизни он не ел почти и не спал. И еще неизвестно, как впереди все будет. Правда, сейчас можно где-нибудь лечь, свернуться, постараться забыть, что было. Но жердяи бродят невдалеке. И с них станет жемчуг силою отобрать. Не успеешь сказать офицерам слова. Да и в трюме пугающий стук машины напоминает, что стрельба закончилась ненадолго и скоро опять начнется. В этом сомнений не было. Офицеры про Лицу слушали с интересом, похоже, что понимали.
Корабль на полном ходу шел, спеша, будто гнал скорее от места, где прежде был город Кола. На палубе ветрено, и Смольков, унимая дрожь в теле, устало смотрел на залив, на то, что осталось теперь от Колы. Вспоминались Маркел блаженный, суд стариков, Афанасий, Андрей, Сулль на акульем лове. Тот любил говорить: кому быть повешенным – не утонет. Сам нашел свой удел в реке. А Смолькову недолго осталось маяться. Он потрогал на себе пояс. Жемчуг только надо сберечь. Пооглядывался, высматривая жердяев. Если станут еще приставать – к офицерам надо кидаться. Они спасут.
И опять старался думать о скорой воле. Как все будет на самом деле? Жемчуг как продаст он, превратит в деньги, как свою жизнь устроит? Но сладкие мысли о ней почему-то сегодня не приходили.
Все из-за жемчуга, из-за жердяев. И как его сохранить от них?
К Смолькову подошли сзади и тронули его за плечо рукой.
– Иван!
Врасплох застигнутый, Смольков вздрогнул, успел себя ругнуть, что не слышал, как к нему подошли, и замер с готовой улыбкой. Двое стояли. Жердяи все те же, здоровые, молодые. По-хозяйски они стали ему задирать рубаху и пояс с него снимать.
Смольков вдруг увидел, что на палубе много солдат, матросов. Они выбегают еще и еще из трюма. Кто-то выкрикивает команды, и все строятся по рядам.
И звериным чутьем, выручавшим в бегах не раз, Смольков понял: беда к нему. И рванулся весь к офицерам: им фарватер показывал! На колени скорее! К ним! Завыть слезно в голос. Причитать и просить! Просить! Ничего кроме жемчуга в жизни нету. Гол кругом, пощадите! Разве даром он рассказывал им про Лицу, объяснял па пальцах, старался чертить на палубе?! Ведь кивали они – поняли, уяснили. И стрельбу прекратили из пушек скоро и снялись с якоря.
Но жердяи поймали его легко. Один сильно рванул за плечо, другой резко ударил его под дых. Боль скрутила Смолькова, сбивая с ног, согнула на палубе в три погибели. И сквозь боль лишь мелькнуло: за что же эдак меня? за что?! А жердяи подняли его, поставили, пояс ловко с него сорвали. Он Смольковым прошитый любовно был, для каждой горошины место отдельно в нем. А они на палубу его кинули, у всех на виду. От боли сильно рябит в глазах, к горлу просится рвота. Смольков битый стоял, ограбленный. И никак не мог понять, что случилось. Успел лишь заметить: смотрят все на него – угрюмо, без доброты. А пояс никто не тронул.
Потом жердяи подталкивать его стали. И он пошел. Матрос с реи спускал веревку. Нижний ее конец болтается на ветру петлей. Осенило, без страха даже: это ему, Смолькову.
И бунтарская кровь всплеснулась в Смолькове жарко. Не просить на коленях слезно, а взъярить офицеров надо. Разжигая в них бешенство, от жердяев отпрыгнуть да заорать: «Не вышло?! – Локоть в пах упереть и качнуть кулаком. – Съели?! И пушек город не побоялся! Сожгли, а победы нету! На сухом постоять не дали!» – Да схватить еще пояс, швырнуть с маху за борт его, да чертом пройтись в приплясе...
Но всплеснулось только на миг. Боль и слабость в побитом теле, и нету сил. Он не может устроить веселье своей душе. Не из тех. Те остались все в Коле. И понял вдруг, что устал, не только телом – устал измаявшейся душой. Будто вынули сердцевину. В прошлом не было радостей, а впредь Кола перед глазами будет всегда гореть. И от этого никуда не деться.
Один он.
Совсем один.
Жердяи руки ему завернули, связали туго. И он подумал будто не о себе: «Сейчас повесят». Не стал даже спрашивать, почему. Только горькая пришла мысль: «Неужели за петлей надо было идти сюда? А как же воля? К ней столько пройдено было лет!» И почувствовал: силы его оставляют. Он обмяк, ноги подкашивались, не шли. Жердяи взяли его под руки, повели. Где болталась веревка, поставили на бочонок, притянули к самой голове петлю. Смольков не видел солдат, матросов. Стояли только ряды сапог, добротных, с подковками. Таким износу вовек не будет. Это им офицер читает свою бумагу. Голос громкий, тоже будто подкован.
Смольков смотрел равнодушно на сапоги.
Скоро все это кончится.
Теперь кончится навсегда.
За кормою было широкое море. По нему есть дорога в Колу. Но там, помнил он, только черное насквозь место. И все. И еще обрывками памяти промелькнули неожиданно дороги последних лет. Неприютность мытарств на них, голод, холод.
Что-то сдвинулось в памяти, повернулось, встало ясно перед глазами: он хотел не в Норвегию и не в Питер, А хотел он все годы к себе домой. Только этого хотел. Как старик тот в лесу: через двадцать вернулся лет. И застлало глаза слезами.
Офицер перестал читать. В тишине прозвучала команда. Барабаны ударили дробью. Через голову кто-то надел Смолькову веревку. Намыленную, наверное. Она липким кольцом обхватила тощую его шею. Почему же жердяи сказали ему «Иван»? В Коле тоже не звали его по имени. И везде не звали давно уже.