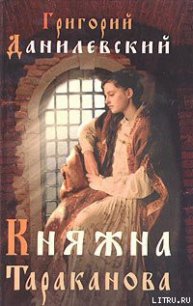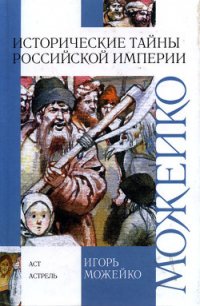Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин" (читать полную версию книги .TXT, .FB2) 📗
Сказал это князь Пётр Никитич графу Петру Семёновичу Салтыкову, генерал-фельдмаршалу и московскому генерал-губернатору, приходившемуся ему, впрочем, сродни, показывая ему свой кремлёвский дом, который Екатерина поручила Салтыкову осмотреть с целью покупки.
— Зато нового претендента на случай уж никак нельзя назвать глупым! — заметил Салтыков, весьма сочувственно относившийся к расхваливанию Трубецким его дома, с целью взять за него подороже.
— А разве есть уже и новый претендент? Извините, ваше сиятельство, почтенный дядюшка, мой нескромный вопрос, но любопытно...
— А ты не слыхал? Вот что значит московским жителем сделаться. Совсем обленился, братец! Нет, твой отец Никита Юрьевич был не таков. И мой тебе совет, коли хочешь взять за дом подороже, — съезди к Григорию Александровичу Потёмкину. По дружбе к твоему покойному отцу и по родству тебе говорю!
— Неужели претендентом Потёмкин?
— Потёмкин, братец!
— Кривой-то?
— Что ж что кривой! Это, братец, не Григорий Орлов и не Васильчиков. Он и одним глазом видит за четверых. Не бойсь, ни в ревность не бросится, ни на пяльцах вышивать не станет, а приладится так, что поневоле французскую маркизу Помпадур вспомнишь!
«Вот как!» — подумал Трубецкой, и только Салтыков уехал, сейчас же отправился засвидетельствовать своё, сенатора, александровского кавалера и родового князя, глубокое почтение к военным подвигам молодого, приехавшего из армии генерала, которого, впрочем, скоро сделали генерал-адъютантом и вице-президентом военной коллегии, хотя подвигов у него ни военных, да и никаких не было.
Зато продал свой дом князь Пётр Никитич, хорошо продал!
А Али-Эметэ?
Холодно приняла Екатерина графа Орлова-Чесменского, хотя и осыпала его милостями; награды на него рекой лились, но ни приближения, ни назначения. Даже после празднеств в Петербург не пригласили. Чесменский герой так и остался в Москве.
— Заслугу оплачивают, — говорила Екатерина, — хотя бы человека и не уважали!
А могла ли уважать Екатерина человека, который продавал священнейшие чувства человека за выгоды её царской милости?
Но, может быть, его верноподданническая преданность?..
Знала Екатерина верноподданническую преданность графа Алексея Орлова по своему мужу.
— Нет, удалец — и только; хитрый плут — и больше ничего. Понадобится мне его удаль и сноровка — позову. Не понадобится — тем лучше! Пусть разгулом себя и Москву потешает; ни ума его, ни чувства мне не нужно!
Не понадобились, она и не позвала.
Но, относясь холодно к Орлову, она не могла с тем вместе не относиться весьма страстно к Али-Эметэ.
В женщине не нашлось к другой женщине столько милости и сострадания, сколько нашлось их в князе Голицыне, и Екатерина писала Голицыну самые строгие настояния, требовала самых решительных мер, чтобы узнать, раскрыть во что бы то ни стало, кто действительно была женщина, всклепавшая на себя имя; кто её выдумал, научил и в ход пустил; узнать непременно всех её наставителей и соучастников, всех её единомышленников.
Бумаги Али-Эметэ Орлов захватил в Пизе хитростью. Он послал де Рибаса, будто бы от имени принцессы, рассчитать прислугу, с выдачею всем наград, и принять все её вещи. Прислуга была очень довольна и безмолвно разошлась, оставив все вещи. Правда, нашлись двое, которые не согласились выдать вещи без личного приказания принцессы. Для получения такого приказания их повезли вместе с вещами в Ливорно на русский корабль. Там, разумеется, арестовали. Бумаги Орлов отправил с курьером сухим путём, и они пришли, прежде чем прибыла эскадра Грейга, Голицын имел время с ними ознакомиться.
Получив непосредственно собственноручное приказание императрицы принять секретную арестантку от Грейга, фельдмаршал и санкт-петербургский генерал-губернатор князь Александр Михайлович Голицын призвал к себе капитана Преображенского полка Александра Матвеевича Толстого, заставил его принять особую присягу в сохранении тайны, велел плыть на яхте в Кронштадт с командой, принять там арестантку и других привезённых с ней лиц и доставить к коменданту Петропавловской крепости так, чтобы о том не знала ни одна душа человеческая.
Как было приказано, так и сделано Толстым. Ночью, незаметно, подошла яхта к эскадре. Весь день команда яхты, по приказу Толстого, сидела в каютах, чтобы не иметь возможности ни с кем, ни о чём говорить. Ночью на яхту привезли арестованных и разместили по каютам, чтобы они не могли друг с другом видеться и ни с кем не могли говорить. В ту же ночь всех привезённых сдали в крепость коменданту Чернышёву.
Команда, разумеется, видела, что кого-то привезли; но кого именно и за что, никто не догадывался и ровно ничего не знал.
Чернышёв сам проводил Али-Эметэ в Алексеевский равелин.
Впрочем, помещение приготовлено было ей там весьма приличное. Оно состояло из нескольких комнат, довольно сносно убранных. При ней оставили Мешеде и горничную, назначили особого доктора. Стол давали если не изысканный, то довольно хороший, приготовляемый особо на комендантской кухне.
Голицын объяснял эту снисходительность свою тем, что она ни в чём ещё не разоблачена, поэтому он считает справедливым предоставить ей некоторые удобства, в особенности по слабости её здоровья и чрезвычайному расстройству, которому подверглась она в пути, наконец, по её положению — беременной женщины.
Императрица не возражала, хотя нельзя сказать, чтобы этим распоряжением осталась довольна. Она только настаивала на скорейшем начатии и строжайшем ведении следствия.
Началось следствие. Начались допросы и передопросы; но что на этих передопросах могла сказать о себе Али-Эметэ? Ясно, она могла повторять только ту сказку, которую говорила Огинскому, Радзивиллу, Орлову и другим и которая составилась в её голове частью из действительных воспоминаний, частью из внушений отца д’Аржанто и других отцов иезуитов, а частью из указаний разных лиц, которые имели случай с ней говорить и на неё влиять; сказку, в правдивость которой она, кажется, начинала верить сама, хотя, как справедливо заметил Панин, сказка эта была настолько дурно скомпонована, что перевирала даже имя Алексея Разумовского, придуманного для неё отца.
Когда Голицын первый раз, в полной фельдмаршальской форме, вошёл к ней в каземат вместе с делопроизводителем комиссии Ушаковым и одним из членов, Шешковским, она сейчас же встала и сама обратилась к нему с первым вопросом:
— Скажите, генерал, что это значит? Какое право имеют так обходиться со мной? Что я сделала и кто смел меня арестовать?
Она говорила лихорадочно, с нервной дрожью. Красноватые пятна выступили на её лице от одолевшего её волнения.
Князь Голицын на это строго заметил ей, что не её дело спрашивать, она должна только отвечать.
— Из вопросов, которые вам предложат, — говорил он, — вы узнаете, в чём вы обвиняетесь, и советую искренним признанием и откровенностью облегчить себе положение, которое в противном случае может привести вас, предупреждаю, к весьма печальным последствиям.
Князь проговорил слова эти весьма строго; тем не менее красота и грация порученной ему для следствия жертвы, видимость её душевных страданий, разрушавших её организм, произвели на него сильное впечатление, и он невольно старался относиться к ней возможно человечнее.
— Я? Отвечать? Хорошо, я буду отвечать! — с вибрацией в голосе и как бы юмористически проговорила она, опускаясь в кресло и положив на стол свою исхудалую ручку, на которой обозначалось тоненькими синими полосками сплетение её нежных мускулов.
— Сударыня, я фельдмаршал князь Голицын, здешний генерал-губернатор. Мне поручена ваша участь. Поэтому убеждаю вас, ради вас самих, к полной искренности...
Али-Эметэ перебила его.
— Князья Голицыны в русской истории отличались доблестями; а вам поручено терзать бедную женщину, захваченную обманом. Ну что ж? В добрый час. Терзайте, мучьте, зовите палачей ваших. Я в вашей власти!