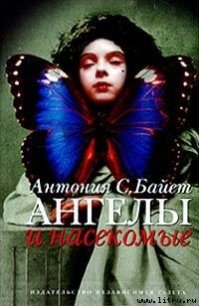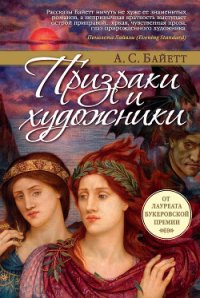Детская книга - Байетт Антония С. (книги онлайн полные версии бесплатно txt) 📗
Холодные обливания, сказал он себе. Обливания чистой, холодной водой.
Ему приснился один из тех кошмаров, в которых вещи не совпадают по размеру. Он, как часто наяву, наблюдал за переноской музейной мебели, закутанной от пыли в холст, похожий на саван, и обмотанной веревками. Большая команда грузчиков, похожих на жуков, тащила какой-то предмет — сначала в одну сторону, потом в другую. Они пытались втащить его через дверь в подземный запасник, но предмет был слишком большой и не пролезал.
— Осторожней, идиоты, — сказал Проспер во сне, — поцарапаете. Попробуйте как-нибудь по-другому.
И тут он вместе с грузчиками (все они были мальчики) оказался на узкой лестнице. Теперь грузчики пытались обогнуть угол с тем же предметом, а он не пролезал. Они тащили его вниз; он свесился через перила.
— Вы что, не видите, что не лезет? — спросил Кейн.
— А чо делать, надо ж тащить, — сказал один из мужчин или мальчиков голосом туповатого капрала, которого Кейн когда-то спас от смертельной ошибки при работе со взрывателем. Кейн перехватил запястье мальчишки, и тот хотел его ударить, но передумал. Во сне Проспер был рад видеть Симмса. Он сказал:
— Ну подумай головой, Симмс, эта штука туда не пролезет, она слишком большая.
— Вы приказали тащить, сэр, — сказал Симмс и налег со всей силы; обвязки лопнули, холстина свалилась и полетела, хлопая, в лестничный пролет.
Предмет оказался огромной кроватью черного дерева с искуснейшей резьбой. Достойной султана.
— И всего гарема, — сказал Проспер во сне, а люди-жуки принялись с размаху таранить кроватью стену. Проспер понял, что это стена в его собственном доме: обитая жуи, и все такое. Лестница начала рушиться под тяжестью.
— Вы так весь дом разнесете, — сказал Проспер Симмсу и — возможно, к счастью — проснулся.
35
Присутствие отца и сына Штернов в коттедже «Орешек» должно было бы взволновать Олив Уэллвуд и отчасти взволновало. Когда она думала об этом (а она старалась не думать), ей начинало казаться, что все невидимое у нее в усадьбе сдвинулось со своих невидимых мест. Невидимое было всегда — спрятанное за невидимыми толстыми фетровыми занавесями, запертое на замок в тяжелых невидимых сундуках. Она сама вешала эти занавеси, сама запирала сундуки, заботясь о том, чтобы познаваемое было отделено от неизвестного, в первую очередь — в умах ее детей. А теперь она знала, что невидимые серые коты выползли из мешков, пляшут и шипят на лестничных площадках, что занавеси кто-то потряс, поднял, заглянул за них любопытными глазами, и ее комнаты наполнились видимой и невидимой пылью и странными запахами. Эти метафоры понравились Олив, и она тут же задумала сказку, в которой кроткие и невинные обитатели дома вдруг осознают, что темный, невидимый, опасный дом стоит на той же земле, что и их собственный, и эти дома переплетаются, проникают друг в друга. Как мысли, от которых невозможно избавиться, начинают жить своей жизнью, воплощаются в осязаемые предметы, становятся предметом торговли.
Олив прекрасно знала, что Дороти поехала в Мюнхен, чтобы увидеть Штерна. Олив знала, что и Хамфри знал, и полагала, хотя он ей не говорил, что он обсуждал это с Дороти. Олив ждала, чтобы Хамфри или Дороти — или Виолетта, которой Хамфри мог открыться, — заговорили с ней об этом, но они молчали. Дороти продолжала вести себя нормально — хотя ничего нормального в создавшемся положении не было и не могло быть. Олив думала, что Дороти стала неприятной, неуступчивой, много и в обвиняющем тоне говорила о своей учебе на врача — во всяком случае, Олив так воспринимала ее тон. Хамфри умасливал дочь.
Олив полагала, что Том знает не больше ее самой. Он совершенно невинно подружился с непризнанными немецкими братьями. Да, Тому было не по себе, но лишь оттого, что он чувствовал: люди думают, что он сам должен кем-то быть или стараться кем-то стать.
Олив придумала образ для себя, параллельный образу, который она использовала для Дороти. Олив видела Дороти как дом без окон, без дверей, в густом лесу. К этому дому выходит заблудший путник в поисках укрытия. Он ходит вокруг дома, но глухие стены не выпускают ни света, ни звука, и войти невозможно.
Иногда Олив ставила кирпичную башню посреди пустыни, по которой нужно было идти много дней. Башня была окружена — фантазия Олив лихорадочно работала — иссохшими трупами тех, кто надеялся найти в ней убежище и доползал до нее уже измученный голодом и жаждой.
В той же пустыне, напротив башни, стояло здание из прочного фарфора, когда-то имевшее форму вместительного гардероба, а ныне ставшее панцирем, в котором было заключено живое существо — или само себя заключило; возможно, панцирь образовался из высохших выделений этого существа; панцирь всех цветов радуги, с гребнями и оборками, как раковина брюхоногого моллюска или чудовищного краба-отшельника.
Были вещи — и их было очень много, — которых Олив не хотела знать; сама мысль о том, чтобы их узнать, ее пугала.
Фарфор был легкий, легче воздуха. Ветер носил его по зыбучим пескам. Фарфор был расписан глазами, но невидящими, как глаза на хвосте павлина или на крыльях бабочек.
Если она перестанет прясть, все это сооружение затонет.
Другой частью проблемы был Ансельм Штерн. В его первый приезд Олив любезно приняла его как знакомого, и он ей подыграл. В каком-то смысле он и был всего лишь знакомым. Они встретились в масках, среди музыки, в нереальном мире, где все дозволено, в мире, который казался реальнее реального мира, — с Олив всегда такое бывало, и в «Жабьей просеке», и в Мюнхене, да и везде, если не считать северного шахтерского поселка. Но теперь и Штерн обзавелся лакированной поверхностью, как лица его марионеток — с единственным застывшим выражением, которому игра света и теней придавала оттенки значений. Олив видела, как он смотрит на Дороти… скорей, скорей, придумай сказку о человеке, который не знал, что у него есть ребенок… которого украла ведьма… узнают ли они друг друга, если им никто не расскажет, или встретятся на улице и разойдутся неузнанными? Сказка вышла хорошая, но Олив видела, как эти двое тайно улыбаются друг другу, и была глубоко несчастна. Она придумала сказку о кукольнике, для которого все люди обладали ниточками и тростями, так что он мог ими управлять. Эта сказка тоже вышла хорошая, но ее главная мысль была несправедлива. Эти двое счастливы, черт бы их побрал. И они не собираются делиться счастьем с Олив.
Она поняла, что все основные действующие лица намерены сохранять такое положение дел; это принесло ей и своего рода облегчение, и боль.
Она удивилась, когда Август Штейнинг позвал ее в соавторы спектакля, который они намеревались поставить в лагере искусств и ремесел. Штейнинг задумал пьесу о волшебстве, в которой будут играть и люди-актеры, и марионетки — кроме того, марионетки тоже предполагались двух видов, одни в рост человека (их должны были двигать люди, одетые в темное), другие — небольшие, сверкающие, выступающие на собственной сцене. Штейнинг думал использовать одну из сказок Олив, например «Кустарник», в которой мальчик человеческого рода уходит к маленькому народцу — его-то и могут изображать марионетки.
Миссис Уэллвуд сидела и смотрела на свою чашку; она взглянула на Ансельма Штерна, чтобы понять, что он думает, но он с недвижным, непроницаемым, словно вырезанным из дерева, лицом смотрел в окно. Штейнинг нравился Олив. С ним она чувствовала себя в безопасности — он восхищался ее работой, тут не могло быть никакой типично человеческой путаницы в отношениях, никаких осложнений.
— Мистер Штерн? — спросила она, стараясь говорить легко и непринужденно.
— Я думаю, что эта идея Августа очень хорошая идея. Мы можем создать новое искусство. Искусство двух миров.
— Я буду рада в этом участвовать, — искренне сказала она, но прозвучало это фальшиво, потому что она уже была в двух мирах.