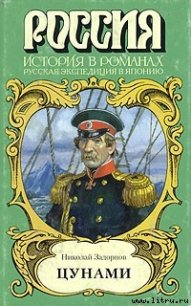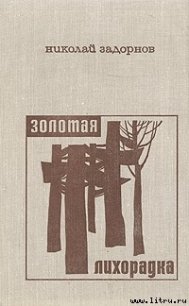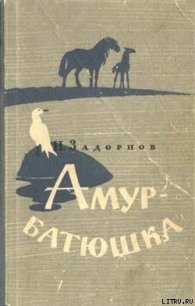Хэда - Задорнов Николай Павлович (читать книги онлайн .TXT) 📗
Японки, даже самые прелестные, любят кушанья из редьки. И Оюки ест ее охотно, как голодный ребенок. Невольно заражаешься страстью к редьке. Отсюда легенда в Хэда, что Ареса-сан очень любит редьку.
– Шкаев! – говорит кто-то впотьмах. – Ступай на бак, к дежурному унтер-офицеру. Доложи: я велел десять горячих.
– Слушаю, ваше...
Не было ни кормы, ни бака, ни кают, ни кают-компании, но остались названия, порядки и привычки. Сохранились законы бака и кают-компании, кубриков и камбуза. Бака нет, а лупка есть.
Ночь наступала. Сейчас в лагере отхлещут по спине своего товарища, беззлобно, но сильно. Битый встанет, пойдет к фельдшеру. Тот вытрет спину спиртом или смажет.
Усатые унтер-офицеры охраняют порядки. Сами выходили из нижних чинов, а били их же. Это люди цепкие, умелые, грамотные, не чуждающиеся знаний. Сила надежная, как сталь. Унтера следили строго за каждым шагом матросов. Идут матросы на работу – ни на шаг нельзя отстать. Чуть что – по роже. Смотрят за людьми и юнкера, и офицеры. Чужая страна, чужой народ вокруг.
В кают-компании, в облаках табачного дыма, видна чья-то вскинутая над лампой рука.
– Что же теперь говорить о войне двенадцатого года! Что тут обсуждалось? Какая новость? Скорей всего, старые сведения, случайно дошедшие через американцев.
Алексей переоделся у себя в каюте и вышел пить чай.
С театра войны нет известий, достигающие отрывочные сведения скупы. Но у всех душа болит, все думают о войне и нередко безошибочно угадывают заранее то, что еще не известно никому.
«Malakhoff, Malakhoff, Malakhoff» [19] – в каждой английской газете.
В этот вечерний час все мыслями в Крыму, словно именно сейчас там происходит решающая битва.
Молодые люди с молоком матери впитали понятия о воинском долге и чести. В каждой семье мужчины из поколения в поколение служили в армии, гвардии и флоте, ходили в походы, участвовали в сухопутных и морских сражениях. Но у каждого свои понятия, свои претензии, счеты с выскочками, со штабными льстецами и карьеристами, с придворной камарильей. В дымном воздухе вдруг задрожит что-то зловещее, синее или красное, воодушевленное и облагороженное идеями гуманности, рыцарства, товарищества, испытанного не раз перед лицом смерти. В плаванье нет повседневных мелочных счетов и расчетов, нет барщины, оброка, приказчиков, нет чиновников малых и больших, понятие о родине и высшей власти чище и возвышенней.
– Паскевич? Меньшиков? Кто же командует?
При упоминании о светлейшем князе Паскевиче вскочил юнкер Урусов.
– Господа!..
Дядя его в бытность молодым офицером, выполняя срочное поручение государя, вошел без спроса к командующему, когда тот отдыхал. Паскевич запустил прямо в лицо ему сапог со шпорой...
– Где же теперь, господа, эти старые вельможи, эти самодуры? Им вверена жизнь сотен тысяч солдат и наша честь!
Все ждали, что теперь в России все начнет меняться. Под ударами дальнобойной артиллерии, под действиями паровых флотов! Но бьют не по графу Гейдену, не по князю Паскевичу и не по Меньшикову. Гибнут многие тысячи людей.
– Паскевич близок государю, господа, – сказал Лазарев.
– Что вы глупости говорите, юнкер! Аракчеева было велено выбрать почетным членом Академии художеств под тем предлогом, что он близок государю... Академики заявили, что кучер Ильюшка еще ближе к государю, чем Аракчеев... И отказали, – сказал старший офицер Мусин-Пушкин.
«Прав один из путешествовавших британцев: послушаешь разговоры в Петербурге – кажется, что вот-вот подымется всеобщее восстание. А все стоит по-прежнему? А ругают правительство и порядки все, даже сами члены правительства!»
...Поутру Можайский, перейдя рисовое поле, по которому на зиму посеяна пшеница, перекрестился и пустил свое новое устройство в небо. Бумажный змей сначала медленно подымался при слабом ветре. Захлопали его двойные плоскости, и четырехугольник с таким же крестом, как на Андреевском флаге, взвился в безбрежную высоту и пошел на фоне золотистой снежной Фудзи, а лейтенант побежал, держа в руке конец шнура, по отмелям и лагунам, окруженный толпой прыгающих и орущих ребятишек.
Американцы, когда он жил на «Поухаттане», подозревая в нем шпиона, выяснили, что в каюте гость их режет бумагу и клеит. Матрос, приставленный к нему, доложил, что лейтенант ладит бумажных змеев и пыхтит, как над важным делом, словно хочет пустить в атмосферу секретный доклад об американских машинах. Матрос был курносый, услужливый, с гордо поднятой головой.
– Зачем опять привезли столько бумаги и тушь? – спросил Александр Федорович Можайский, приходя после испытания в чертежную. – Неужели все-таки будем чертить салазки?
– Да, спусковое устройство, – ответил Сибирцев.
Разговор офицеров Татноскэ перевел Оюки...
– Зачем салазки? – спросила девушка. – Нет снега.
– Да, нет снега. Это будут большие салазки, – сказал Сибирцев. – Больше, чем корабль. Покатим на них к морю корабль, когда будет готов. По сути, обезьяний бизнес, напрасное дело, дипломатический реверанс нашего адмирала.
– Салазки уже начаты нашими матросами без всякого проекта, – сказал Можайский. – Унтера вымеряли и приступили к делу.
– Адмирал велит сделать по строящимся салазкам проект. Хочет дальше учить японцев, оставить им все документы, все чертежи до мелочей включительно, чтобы они могли изучать.
– Это есть его благодеяние! Распространение образования! Оставим о себе память как о благородных друзьях.
– Исполать! Потрудимся, раз так! Правда, Оюки-сан?..
– Да, да...
– Но сегодня мы едем на охоту, Сибирцев, – сказал Александр Федорович.
– Что такое?
– Да, приказ адмирала!
– Заманчиво! Кто позволил?
– Эгава-сама! Мне и вам от японцев приглашение!
– Но нам же не позволяется дальше чем за семь ри...
– Эгава позволяет куда угодно, и даже просит. Тут много кабанов. Сын его едет с нами, наблюдение обеспечено.
Пришел Мусин-Пушкин.
– Вам ехать на охоту, господа! Посмотрите, что у них за леса, как содержатся... Евфимий Васильевич разрешает на два дня отсрочить работу. А ваши летающие аппараты, Александр Федорович, еще никому не понадобятся целое столетие!
– Почему, Александр Сергеевич, так говорите? – холодея, спросил Можайский.
– Да потому, что вам еще нужно время, чтобы изобрести их, потом понадобятся средства, а вы не миллионер, – значит, нужно мецената искать. После, когда пойдет слух, что изобретение важное, то европейские жулики постараются выкрасть и выдать за свое. А наши жулики, столичные, объявят, что изобрели не вы! Вот тогда великое открытие свершится и наука восторжествует! Господа... с богом на охоту! Изучайте сосны и колючки!
– Да, работа не зверь, в лес не убежит, – согласился Сибирцев.
«Какая-то жалкая рыба взлетает, – думал с возмущением Можайский, – а человек не может... Не верю, когда вокруг нас океан воздуха!»
«Эка разговорился старший офицер! – подумал про себя Сибирцев, совершенно не понимая смысла сказанного Пушкиным. – Бывает что и его прорвет! Все мы тут больше молчим!»
«Ты, Алеша, воин, буси [20], – думала Оюки. – Тебе со мной скучно. Я очень несчастная, Алеша-сан. Ты уходишь и оставляешь меня одну...»
Сибирцев зашел домой, достал дневник и записал: «Сегодня идем с А. Ф. на охоту с японцами, куда они поведут, обещают, что за гору Дарума, на которую мы часто любовались с делянки, где рубили лес. Капитан сказал, что идти надо обязательно. На днях Степан Степанович говорил со мной про Зибольда, что американцы не взяли его в экспедицию под тем предлогом, что Зибольд русский шпион. Капитан сказал, что, может быть, так и есть на самом деле».
Не знаю, писать дальше или нет? Впрочем, все наши дневники со временем, если вернемся благополучно в Россию, приказано будет сжечь. Однако кое-что надо записывать, хотя бы для того, чтобы запомнить...
19
Малахов, Малахов, Малахов!
20
Воин, рыцарь.