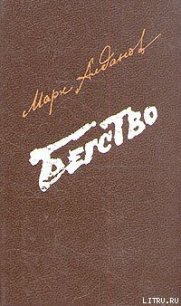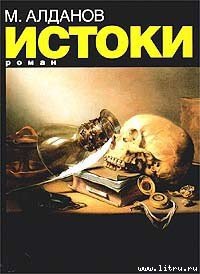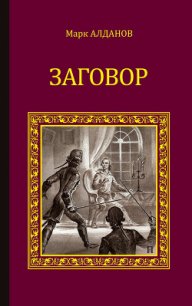Самоубийство - Алданов Марк Александрович (бесплатные книги онлайн без регистрации TXT) 📗
«Е ad mondo non e se non vulgo», — повторял он мысленно. Он плохо помнил, что именно делал папа Александр. «Кажется, убивал людей. Это ни к чему. Сам Маккиавелли думал, что казней должно быть возможно меньше. Обман совершенно другое дело». Теперь жалел, что в Лозанне произнес богохульную речь. «Разумеется, Бога нет, но лучше говорить, что Бог существует или молчать об этом. Правда Карл Маркс поступал иначе, и он тоже был великий человек, хотя и не итальянец. Но он жил в другое время». Ему теперь казалось, что он нашел нечто общее в Марксе и в Маккиавелли, не только в их характере, — оба, конечно, не любили людей, но и в их философском отношении к миру. Оба говорили о том, что есть, а не о том, чего бы им хотелось. Маркс говорил о борьбе между классами, а Маккиавелли о борьбе между людьми. «И может быть, хозяином мира будет тот, кто их сумеет объединить»…
Его волненье всё усиливалось. «Да как же люди, за исключением очень немногих, так лживо и лицемерно говорят об этой книге! Коварство? Какое глупое, комическое слово! Это самая настоящая правда жизни! В малом все это делают и либо старательно это скрывают, либо сами не замечают, что гораздо хуже! А если это делать в большом, то успех обеспечен. Теперь обеспечена моя карьера! И неправда, будто этот великий человек был пессимистом. Пессимисты — трусы, это ругательное слово, а он был гений. Ему не везло в жизни? Но это объясняется только тем, что он о своих идеях заботился больше, чем о себе. Да и разве ему не везло? Он своими идеями добился бессмертной славы, а я добьюсь ее своими делами. И это еще лучше: человек всегда важнее, чем его мысли. Теперь, пока, самый верный путь: социализм, революция. А там дальше будет видно».
Утром он рано вышел на прогулку, не сиделось дома. Хотел еще раз всё обдумать, — при быстрой ходьбе многое и в мыслях становилось гораздо яснее. Погода была прекрасная, солнце и ветерок, — такая погода, при которой всё кажется возможным и даже легким. Было воскресенье, искать работы не приходилось. Решил осмотреть Милан; знал его не слишком хорошо, а в своей стране, ему теперь казалось, надо знать всё. У него было радостное сознание, что случилось нечто очень важное, меняющее его жизнь.
«Да, это так, как я понял вчера», — думал он. — «Я теперь вижу и ошибку Маркса. Он исходил из предположения, будто люди руководятся своими интересами. Отсюда и его классовая борьба. Она, конечно, есть, но очень большого значения не имеет… А еще какой-то француз, — кажется, Декарт? — в основу жизни клал разум. И оба они ошибались: люди руководятся не разумом и не интересами, а страстями и вековыми инстинктами. Надо пойти еще дальше, чем пошел Маккиавелли. Да, надо раз навсегда понять, что человек ничего не смыслит, что он не может вести себя согласно требованиям разума, часто не понимает своих собственных интересов, еще чаще им не следует. Он думает сегодня одно, завтра противоположное, и ему тоже можно и нужно говорить сегодня одно, а завтра совершенно другое. Он даже и не заметит. Лишь бы только образованное дурачье ему не напоминало и не разъясняло, и уже по одному этому не следует давать свободу образованному дурачью. Свобода может быть только у больших людей, желающих прожить свою жизнь как следует. А это надо делать умеючи и осторожно, иначе сорвешься в самом начале и отправят в тюрьму или в каторжные работы, как того убийцу в русском романе. Он по глупости убил старушку для каких-то сотен лир. Да и этого он не сумел как следует сделать… Вот этот собор, это тоже сила и даже большая, хотя все-таки не очень большая. Зачем я тогда нес вздор пастору? Людей одинаково можно уверить и в том, что Бог есть, и в том, что Бога нет. А это надо делать в зависимости от многих обстоятельств», — думал он, проходя по Piazza del Duomo.
Церкви, музеи, всё старое ему мало нравилось, картин существует слишком много, не запомнить даже имен художников, кроме самых знаменитых, да и те ни к чему. Всё же он заглянул в Собор, все начинали с него осмотр города. Гид, показывавший его туристам, сообщил, что три окна — самые большие в мире. Это было приятно, но удовольствие уменьшалось от того, что они были работы какого-то французского мастера.
У Брера он увидел конную статую Наполеона I. Лошадь была уж очень пышная, таких не бывает, особенно в походах. А на лицо императора он смотрел с восхищением: тоже великий человек и во всяком случае то крови итальянец. Затем повернул назад, прошел мимо театра Скала, — чуть ли не самый знаменитый оперный театр в мире — итальянский. Ему не очень хотелось побывать на спектакле, но его раздражили цены на афише, — нельзя было бы пойти, хотя бы и хотелось. Вошел в галлереи Виктора-Эммануила, и тут его раздражение перешло в бешенство, памятное ему по первым дням Лозанны. Хотелось купить всё, — начать бы вот с этого костюма в 169 лир! Тогда с ним и в партийном комитете говорили бы иначе. У богатых людей — «cupidi di guadagno» — есть и фраки, и смокинги, и сюртуки!
Из галлереи он направился в не-исторические кварталы города. Новым, хозяйским взглядом замечал неустройство, грязь, неподстриженные кусты, потускневшую краску домов, беспорядок в движении трамваев. Вышел на Piazzale Loretto и почувствовал голод и усталость. Справа от Корсо Буэнос-Айрес была кофейня, но, очевидно, дорогая. Столики террасы были накрыты чистенькими скатертями, хорошо одетые люди пили и ели что-то необыкновенно вкусное. На висевшей у входа раскрашенной карте было блюдечко с мороженым разных цветов, с фруктами, с ягодами, с вафлями. Узнал, что это называется «Coppa Ambrosiana».
Теперь знал, что будет у него и Coppa Ambrosiana, и всё другое. Но раздражение от этого не проходило. В дешевенькой лавочке он купил хлеба и кусок Горгонцолы. Где-то присел на скамейке, позавтракал и осмотрелся как следует. По средине площади — и даже не по средине, а как-то неровно — сбоку — была жалкая растительность, — а можно было бы тут устроить прекрасный садик. И дома тоже были несимметричные, грязно-желтых цветов, только бездарные люди могли выстроить такие здания. Один дом, на углу Корсо Буэнос-Айрес, выходил на площадь стеной без окон, — дурачье! Около этого дома было странное строение всё из железа с огромным крюком. Он долго на него смотрел, — зачем тут крюк? Солнце розовыми лучами освещало на доске афишу с надписью крупными печатными буквами: «Evitate rumori inutili».
V
Люда приехала в Брюссель 30 июня, в самый день открытия съезда. Рейхель дал ей на поездку полтораста рублей. Она всегда очень ценила его щедрость и джентльменство в денежных делах. Знала, что у него у самого осталось мало; сначала говорила, что возьмет только сто, но согласилась: ей писали, что съезд может затянуться.
— Деньги, конечно, даром выброшены, вся твоя поездка совершенная ерунда, но бери полтораста, — говорил Аркадий Васильевич. — А то можешь остаться без гроша, да еще в чужом городе. У всех товарищей вместе взятых впредь до социальной революции не найдется и ста рублей, да они тебе всё равно и не дали бы.
— Отстань, нет мелких.
Опять был проделан ритуал проводов, и опять оба вздохнули с некоторым облегченьем после отхода поезда. Всё же на этот раз Люда на прощанье поцеловала Рейхеля почти с нежностью, чего с ней очень давно не было. Ей вдруг стало его жалко. «Бедный сухарь! Он не виноват, что такой. Но и я не виновата. Ох, тяжело с ним»… Ей всё больше казалось, что скоро в ее жизни произойдет перемена.
Поезд пришел в Брюссель в первом часу, а съезд открывался в два. Времени для поисков гостиницы было мало. Люда остановилась в первой у вокзала, приличной и не слишком дорогой. Комната стоила всего три франка в день; внизу была общая гостиная, где можно было бы принимать людей. «Вдруг кто-нибудь зайдет». Она привела себя в порядок, надела другое платье, хорошее, но не самое лучшее. Не было времени и для завтрака, выпила только чашку кофе, съела сандвич. «И так опоздала»! Обедать будем верно все вместе с Ильичем, с Мартовым, быть может и с Плехановым. Наконец-то, увижу и Плеханова! — радостно подумала Люда. В Женеве она его не встречала: хотела было зайти познакомиться или, вернее, представиться, но ей сказали, что он, должно быть, ее не примет, к нему попасть не так легко, жена оберегает его покой.