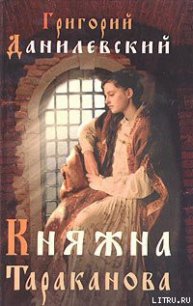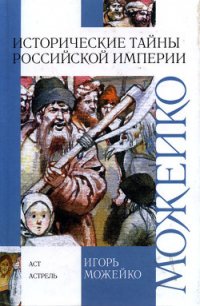Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин" (читать полную версию книги .TXT, .FB2) 📗
И точно, Грейг скоро получил вице-адмирала, был сделан главным командиром Кронштадтского порта, пожалован александровской лентой, получил имение и деньги; тем не менее он и писал и говорил Орлову, что более тяжкого и неприятного поручения ему в жизнь свою не доводилось исполнять.
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
I
ВОПРОСЫ ЖИЗНИ
Увлечённые рассказом о похождениях Али-Эметэ, втянутой в политическую интригу врагов Екатерины, мы забыли совсем настоящую княжну Настасью Андреевну Зацепину, или, как звали её в коллегиуме, Анастасию-Елизавету, принцессу Владимирскую, отказавшуюся и от герцогского титула старинного дома французской аристократии де Праленов, и от многомиллионного состояния, чтобы сохранить за собой свободу в выборе сердца.
Её симпатии, как мы уже говорили, остановились на стремлениях к равноправию и свободе, подавляемых английским меркантилизмом, в сознающих уже свои права гражданах Северной Америки. Один из этих граждан, Эдварс Ли, успел сосредоточить на себе силу её душевной преданности, и она, счастливая жена, счастливая мать семейства, отдала своему новому отечеству все силы своей чистой души, всю искренность своей преданности.
Мы говорили, что восставшие на свою защиту американцы, благодаря всеобщему сочувствию, прибывавшей отовсюду помощи и неутомимой энергии своего вождя, начали оправляться от понесённых им в начале поражений и что Настасья Андреевна, тогда уже миссис Ли, следуя за своим мужем, командовавшим одним из отрядов союзной армии, внесла в этот отряд ту восторженную преданность делу, то братское чувство стремления к взаимной помощи и то доверие к своему начальнику, которые служат первым залогом успеха. Она, силой своей женственности и готовности к самопожертвованию помогла своему мужу из вверенного ему отряда создать одну семью, в которой каждый готов был стоять за всех и все за одного. Она внесла в этот отряд уверенность каждого в самом себе, сблизила, соединила все мысли, сосредоточила все желания и, можно сказать, дисциплинировала всех в их взаимной братской любви, Обожаемая мужем, окружённая людьми, ей бесконечно преданными, пользуясь общим и заслуженным уважением, она была счастлива даже среди лишений и трудов похода, даже под опасностью ежеминутного нападения и тревоги от выстрелов.
В эти-то минуты редкого счастия, созданного её самоотверженностью, ей пришло известие о болезни её обоих детей. Естественно, она должна была оставить отряд. И она уехала, сопровождаемая общими благословениями, общими желаниями ей всего лучшего.
Её молодой, любимый и любящий муж провожал её на два перехода. Он сознавал, что обязанность гражданина приковывает его к своему посту, поэтому, с замиранием сердца, с тревожной тоской, прижал он её к своей груди, отпуская на труд, не менее священный, чем тот, которому он посвятил себя.
Она нашла своих мальчиков хуже, чем могла ожидать. Они оба горели, покрытые язвами до неузнаваемости, и сами не могли её узнать, хотя, видимо, мелодичность её голоса и сила материнского чувства производили на них благотворное влияние и давали им отраду даже в тяжкие минуты болезни.
Среди горячечного бреда, в минуты исступления, бедные дети выполняли каждый совет, каждое слово матери, хотя не узнавали её и даже едва ли сознавали её присутствие.
При первых же припадках болезни детей старая миссис Ли, разумеется, послала за доктором.
Но какого же доктора просить? Большая часть из них находилась при армии, остальных миссис Ли не знала. В это время в Массачусетс, где старая миссис Ли с внуками пребывала, прибыл новый доктор, специалист по лечению оспы и, говорили, учёная знаменитость, по крайней мере он говорил это о себе.
Доктор был немец, Шёнкопф, редкой представительности, зато шарлатан такой, каких немного на свете, а между немцами, пожалуй, и не найдёшь; всех итальянцев перещеголял. Он был небольшого роста, полуседой, но весьма живой старик, с блестящими, будто проницающими насквозь глазами и густыми, нависшими на глаза, чёрными как смоль бровями.
По приезде в штат он поместил о своём приезде статьи во всех газетах. В одной из этих статей описывалась комната, в которой он принимал посетителей, и перечислялись висевшие в этой комнате на стенах, полученные будто бы Шёнкопфом от разных европейских университетов и академий дипломы: описывался альбом, в котором были вклеены сотня или более различного рода записок, выражающих благодарность за чудесное исцеление. Каких имён тут не было; каких лиц он не лечил и не исцелил? Записки эти прибавлялись ежедневно и печатались во всех газетах. Другие статьи описывали его подвиги на пользу науки и человечества, особо в борьбе его с таким опасным злом, как оспа; наконец, сделанные им разные открытия в терапии болезни, которую он избрал своею специальностью.
Ну как было не пожелать видеть такого человека, как не поговорить с ним о болезни любимых внуков?
А речь его была полна, плавна, методична. Он увлекал всех своей речью и благодаря ей составил себе известность и деньги.
Этою речью он увлёк и старую миссис Ли, описывая болезнь её внуков так, как будто он держал её в своей ладони и мог уничтожить во всякую минуту. Она вверилась ему безусловно, взяв на себя только наблюдение за точным исполнением его советов.
Между тем советы нашего знаменитого доктора были очень ограничены. Он признавал за абсолютно полезное во всех болезнях только одно средство — каломель.
Каломель была, по его мнению, тем философским камнем, тем археем всех веществ мироздания, который всегда и везде должен восстановить жизнь.
Таким образом, дипломы ли его были не более только как искусное произведение гравёра, или, со времени их получения, он успел выкинуть из головы всё, за что они были ему выданы, считая совершенно излишним, при надлежащей ловкости и сноровке, сохранять в себе ещё знания, — только дело в том, что он знал и верил единственно в каломель и морил своих больных во славу Божию, отравляя их каломелью во всевозможных видах, и чем больше, тем лучше. А уморив, Шёнкопф с спокойной совестью получал свой гонорар и заверял, что для спасения больного было сделано всё, что во власти человеческой; а что если он умер, то уж такова, значит, была воля Божия.
Настасья Андреевна в первую же минуту своего приезда, несмотря на свою неопытность в распознавании людей, увидела, что тут что-то не так. Она сейчас же разослала гонцов за докторами во все стороны, где только можно было их найти.
Доктора приехали, посмотрели, поспорили. Всякий говорил своё, отрицая всё, что говорят другие. Наконец они сошлись на одном, что поздно; сказали это «поздно», взяли деньги и уехали.
И точно, было поздно. Никакая любовь, никакие попечения матери были уже не в силах спасти малюток, скорей отравленных лекарством, чем сражённых болезнью, и они оба, один за другим, скончались на руках прижимающей их к сердцу любящей матери.
Отчаянию Настасьи Андреевны не было предела, если бы она не думала о муже, который, она знала это хорошо, стоял в это время грудью против неприятеля и который, она тоже знала, не пожалеет своей жизни, чтобы сломить вражескую силу.
Поэтому, схоронив то, что было частью жизни её самой, она сейчас же полетела к мужу на поле отчаянной битвы.
Она думала: «Утешу его, облегчу тяжесть нашего общего горя, окружу заботливостью, успокою, поддержу энергию его и тех, кто связан с ним общностью самоотвержения, кто разделяет его труды и опасности».
Да, торопись, Настасья Андреевна, спеши. Тому, кто теперь единственная радость твоей жизни, нужна твоя помощь, нужна твоя заботливость. Ему нужен ангел-утешитель, чтобы облегчить страдания и закрыть глаза, которыми он так страстно упивался твоей красотой и так бесстрашно глядел в глаза смерти.
Молодой Ли был смертельно ранен при атаке последних высот, занимаемых гессенцами в Виргинии, чтобы за окончательным отступлением их иметь возможность открыть первый конгресс, положивший начало освобождения нового государства.