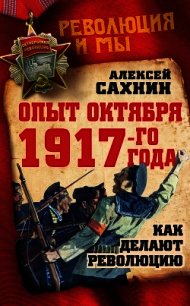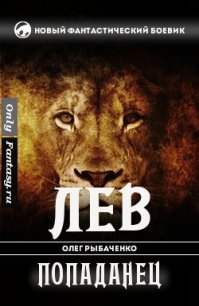Гулящие люди - Чапыгин Алексей Павлович (читаем книги txt) 📗
– Видатца ли, Ульяна? Прощай! Перевел взгляд на город.
Черные и серые домишки с гнилыми крышами в тесовых свежих заплатах казались совсем присевшими к земле… будто нес их кто-то большой, задел шапкой за облако и от холода в лицо споткнулся, рассыпал домишки, они пали кой-куда и коекак…
– Эй, старик! – крикнул во весь голос Сенька. Голос заглушал колокола, а прыгающий старик и лица не повернул. – Черт! Эй! Звонишь, будто в Христов день!
Старик, сжимая тощие губы, делал свое дело.
Сенька схватил в руку веревку самого большого колокола. Колокол молчал в стороне. Сенька дернул раз, два… Медный могучий гул загудел и поплыл над городом, Волгой и в заволжские равнины. На медный глас ответил издалека Спасский монастырь. Монастырский звонарь как бы спохватился, что тихо звонит… он начал звонить сильнее и сильнее.
Внизу, в городе, маленькие люди снимали шапки, крестились. Пономарь разом оборвал звон, замахал руками, подбежав, кричал:
– Сынок, не трожь тое колокол-о-о… Силушки моей нет в его звонить… а люди обыкнут, заставят, и мне службу кинуть. Жить еще лажу-у!
– Добро, не буду. Ты мне одежду дал, да посоха не припас…
– Припас, сынок, осон [318] старинной! Как в сенцы зайдешь, ошую чуланчик… в ем и осон стоит в углу…
– Звони, прощай – больше не приду!
– Што так? Ай воевода спущает?
– Спустил… Ухожу от твоих мест!
– С богом, сынок, с богом!… Ну, я звоню… Пономарь взялся за веревки, колокола запели.
– И э-эх, кабы правда! Я тогда племяшку свою за причетника окрутил бы…
Старик звонил больше, чем надо, а Сенька, одетый монахом, выходил из церковной ограды. Люди, идя в церковь, говорили:
– Экой монашище… иеромонах, должно?
– Борода кратка!… Чин зри в долгой браде…
Еще не было отдачи дневных часов, а пастухи из-за хмурого дня загоняли скот в пригороды Ярославля. Стадо овец подпасок загнал близ дороги в мелкое болотце, иначе боялся отведать помещичьей шелепуги. По дороге верхом, с шелепугами, плетьми и пистолетами за кушаками, в скарлатных и простых суконных кафтанах проезжали помещики на сытых лошадях. Горожане, на скачущих толпой или одиноко едущих поглядывая из-за углов и полураскрытых дверей, переговаривались, боясь громко кричать:
– Едут! А поди, многих их ограбил наш Бутурлин?
– Они и сами глядят того же…
– Мужики-то у их многи на правеж забраты, раздеты до нитки-и!
– Тише… учуют – беда!
– Старосты губные сыск ведут… боятца, как бы чего не было от мужиков помещикам!
– Ни… боятца пустого… мужик смирен, в кут загнат!
– Во, во как пошли! Грязь выше хором из-под копыт…
– Ух, и запируют!
– Тогда пуще берегись. Купцам лавки беречь надо!
– Сторожам наказать, штоб не спали, глядели в оба пожога для…
– Поди ночуют? Спать у воеводы есть где!
– Все едино опас надо иметь.
С Волги нагоняло туманы, и с Волги же в туман вливался смольливый дым рыбацких многих огней… Дороги размякли. Кусты и деревья без дождя подтекали и капали. Молодая зелень пушилась от многой влаги – набиралась сил. Сегодня от раннего сумрака лавки, особенно иностранные, раньше закрылись. Городовых стрельцов было мало, после отдачи дневных часов редкие часовые у стен и лавок разбрелись по домам: «Чего у стен разбитых в ночь стоять!»
Сторожа, постукивая в свои доски, сменили стрельцов, – они перекликались меж собой, а озябнув, шли греться к рыбацким огням на Волгу. Их тянуло к тем огням и любопытство. У огней всегда рассказывали о новом разбойном атамане Стеньке Разине: «Сидит-де на острову у Качалинского городка Разин… К ему много голышей и бурлаков побегло!»
– То-то, братцы, ужо воеводам работы прибудет!
– Наш-то Бутурлин, сказывают, боитца?
– Кабы не трусил, то наказов и не давал… Што ни день – наказ: «Живите с великим береженьем… да как-де воры на Волге и у вас, тверицких слобожан, не бывали ли?»
Один из сторожей с боязнью заговорил:
– А быть неладному в воеводском дому!
– Пошто, борода с усами?
– А вот и борода! Как отдача часов кончилась, к воеводскому дому монах с посохом пробрел…
– Может, он к Спасскому монастырю пробирался?
– Да и где не бродят чернцы! Пустое сказывает борода…
– Жители, кои видали того монаха, крестились да говорили мне: «Ты, Микитушко, видал ли монаха?» – «Видал», – говорю. – «Так-то де смерть воеводина пробрела…»
– Ну уж, впервые чернцов зрят, што ли?
– Так ли, иначе будет… може, не воеводе, а городу опас грозит! Эй, хто тут сторожи? Выходи на вахту – я тож пойду!
– Погрелись – и будет, – все идем!
Воевода в байберековом [319] кафтане, по синему золотные узоры, расхаживал по своей обширной горнице, устланной коврами. Правой рукой старик теребил жемчужные кисти такого же байберекского кушака. Горницей проходила Домка, наряженная попраздничному. Домка – в белой шелковой рубахе, рукава руба-. хи к запястью шиты цветными шелками. От груди к подолу, поблескивая рытым бархатом [320], висел на лямках распашной саян, оканчивался саян широким атласным наподольником таусинным. Саян этот – дар воеводы.
– Стой, Домка! – остановил воевода. Могучая фигура Домки покорно застыла.
– Одета празднично, а лицо твое хмуро… Зови, девка, с поварни помочь тебе, кого хошь…
Домка поклонилась:
– Ни, отец, на пиру мы и с Акимом управим… было бы на поварне налажено все…
– Замешка, нерадивость в поварне кая будет, скажи – сыщу! Столы приставь к этому да сними с потолка из колец дыбные ремни…
Домка пошла. Воевода сказал ей:
– Кличь дворецкого!
Дворецкий, одетый в темный бархатный доломан, вошел, приседая и низко кланяясь:
– Звал меня, батюшко?
– Звал… Хочу спросить тебя, старик, – с честью ли ты отпустил сыновнего посланца и сказал ли ему: «Все, Феодор, сын мой, исполнено будет…»
– Сказал, батюшко воевода. С честью отпущен был московский слуга. Трое стрельцов были дадены проводить до дальных ямов, почесть до самой Троице-Сергиевой…
– Добро! А еще сумнюсь я – наедут ли гости? Мног страх вселяю им…
– Наедут, батюшко! Холопи доводили: «Гонят-де по дороге многи конны люди, обрядные…» То они. Будут гости, не сумнись…
– Иди и за воротами встречай с честью…
– Чую, иду!
Дворецкий ушел, а воевода, походя, думал: «Угрозно пишет сынок: „…и ежели ты, батюшко, не угомонишься, то великий государь призовет тебя и грозит судить в Малой Тронной сам, как судил Зюзина Микиту!“ – Зюзина Микиту судить было близко… мы же здесь дальные, а потому и своеволии…»
Подошел к иконостасу в большом углу, поправил тусклые лампадки, замарав пальцы маслом, вытер о подкладку дорогого кафтана. Покрестился, фыркнул носом: «Гарью масляной запашит! Ништо, скоро вином запахнет». Опять стал ходить и думать: «Да, удалой прибежал к нам забоец и грамотной много… и был бы бесплатной подьячий, только надо немедля оковать, сдать Москве! А с Домкой как? Да также и Домку… Неладно, похабно кончить с умной, ближней слугой – без рук стану, без ног… только честь боярскую и шкуру оберечь неотложно… Жаль отца да везти на погост! Землю слезами крой и могилу рой… так, неминучая… Дам жратву московскому болвану в Разбойной приказ, тогда минет к нам Микиткина гроза!»
Гости расселись. Иные боязливо оглядывались на Домку. Домка с дворецким, лысым, хитрым, преданным воеводе стариком, обносили гостей закусками и водкой. Закусив многими яствами, начиная с копченой белуги и грибов, гости приняли по второму кубку. Тогда воевода в конце стола встал, высоко подымая кубок, сказал во весь голос:
– Радуюсь, соседи, великой радостью радуюсь, што не покинули одинокого старика и брашном нашим не побрезговали! Нынче и всегда пьем за великого государя всея Русии Алексия Михайловича – здравие!
– Пьем, воевода!
– За благоверную царицу Марию Ильинишну пьем!
318
Осон – посох с железным концом; подобным Иван IV убил сына.
319
Байберек – крученый шелк с узорами.
320
Рытый бархат – бархат с тиснеными узорами (от слова «рыть»).