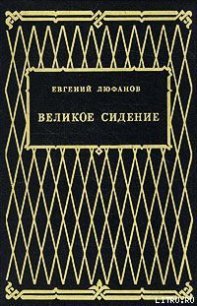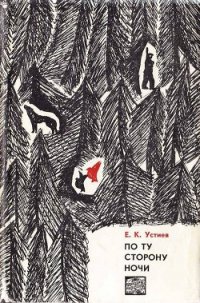Великое сидение - Люфанов Евгений Дмитриевич (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .TXT) 📗
От супружеского медового месяца никакой сладости у молодоженов не оставалось, а только все сильнее отдавалась от него горькой отрыжкой взаимная неприязнь. Будучи во хмелю, когда море по колено, Алексей иной раз бесцеремонно являлся в спальню жены, но часто бесприветно уходил прочь, ворча с озлоблением:
– Сердитует, паскуда, не подпускает… Своими бабьими немочами отговаривается… Должно, взбучку хорошую ждет, – сжимал он кулаки, и подмывало, ох как подмывало его проучить строптивую благоверную. Только и удерживало, что много визгу будет, ажно в цесарской Вене прослышится, где австрийской императрицей родная сестра Шарлотты. Получалось так, что в постель к еретичке ложись да помни, чтоб все политично было, чтоб неудовольствия не доставило. Прах с ней совсем! Афросинья в сто раз милее, да и других девок много, а баб – того больше. Кронпринцесса отдалила от своего двора всех русских; прислуживали ей немки, а самым близким человеком была ее родственница принцесса Юлиана-Луиза остфрисландская, которая всячески старалась способствовать разладу между супругами. С ней Шарлотта могла отводить душу на чужбине, сетовать и плакаться на свою все еще неустроенную судьбу. Ничто ее не радовало и нечем было довольствоваться.
Дом, в котором она жила в Петербурге, был выстроен специально для них, молодоженов, но мог только в насмешку называться дворцом, потому что уже требовал большого ремонта. Крыша на нем дырявая, и во время последнего ночного дождя в спальне ее высочества кронпринцессы капало с потолка. Хорошо еще, что мимо постели, но около нее на полу образовалась лужа. Потолок был украшен аллегорической живописью: на нем увитый розами, якобы пылающий жертвенник, и как раз огонь этого жертвенника заливала дождевая вода. По бокам жертвенника дрогли от сырости голыши-купидоны, каждый держа по гербу: один – с русским орлом, другой – с брауншвейгским конем, и между ними была протянута лента с надписью: «Никогда более благородных не соединяла верность». И с нее, с этой надписи, тоже капало. Весь жертвенник покрывало темное сырое пятно; с пламени Гименея стекала грязная и холодная дождевая вода, – слезы проливал бог супружества над ее высочеством.
Знала Шарлотта, что у мужа метресса – девка самого подлого звания, из крепостных; видела ее, приезжавшую к царевичу в Петербург: рыжая, толстогубая, с наглыми глазами, – такая мерзкая тварь! Было бы вполне понятно, допустимо и прилично, если бы царевич имел метрессу (и пусть даже не одну) из высокопоставленного знатного рода, как это водится во всех европейских дворах, но иметь простолюдинку… И Шарлотту передергивало от брезгливости.
А Афросинья с пренебрежением смотрела на нее, гордая тем, что в глазах царевича затмила собой высокознатную кронпринцессу. Это ли не заслуга, не честь для дворовой девки! И как она сладостно убаюкивалась речами царевича Алексея, что он, может быть, по примеру отца, сошлет жену в монастырь, а на ней, Афросинье, женится. Потом это, когда сам царем станет. И Афросинья вполне допускала такую возможность: теперешняя царица Екатерина – тоже ведь из простых, сказывают люди, что портомойкой была…
В особо ласковые минуты царевич ее, рыжую, ненаглядной Фрузой, Фрузочкой называл и ни в грош не ставил перед ней свою постылую иноземку.
В 1714 году от излишнего винопития и от других невоздержанностей у него несколько расстроилось здоровье. Заботливые медики присоветовали ехать на воды в Карлсбад. Царь Петр находился в отъезде, и Алексей написал ему, прося позволения поехать лечиться. Петр разрешил, и тогда ближние царевичу люди в один голос стали твердить, что ему надобно воспользоваться этим случаем, дабы дольше пробыть за границей и тем самым – подальше от отца.
– А когда подлечишься, – говорил Кикин, – напиши отцу, что еще на весну надобно тебе лечить себя, а между тем поезжай хоть в Голландию, хоть во Францию, а то можешь и в Италии побывать, и отлучку свою от отца года на два, а то и на три продлишь.
Отправляясь в Карлсбад, Алексей без всякого сожаления оставлял Шарлотту на восьмом месяце беременности, и она видела, с каким весельем он покидал ее.
Петр знал, что невестка на сносях. Надо было, чтобы при рождении ребенка находились доверенные знатные особы из русских. Опасения ради следовало оберечь рождение истинного дитяти, а не случилось бы какой подмены ребенка или облыжно не считали бы его подмененным, как то о нем самом пустобрехи слух распускали, будто он сын иноземца Лефорта. Надо, чтобы никакого мошенства быть не могло. Петр так и написал об этом Шарлотте: «Я не хотел вас трудить; но отлучение супруга вашего, моего сына, принуждает меня к тому, дабы предварить лаятельство необузданных языков, которые обыкли истину превращать в ложь. И понеже уже везде прошел слух о чреватовстве вашем, того ради, когда благоволит бог вам приспеть к рождению, дабы о том заранее некоторый анштальт учинить, о чем вам донесет г. канцлер граф Головкин, по которому извольте непременно учинить, дабы тем всем ложь любящим, уста загорождены были».
«Анштальт», о котором говорил Петр, заключался в том, чтобы свои люди, жена графа Головкина, генеральша Брюс и Ржевская, носившая шутейный титул князь-игуменьи, находились неотлучно при кронпринцессе. Эти дамы присутствовали при рождении у нее дочери царевны Натальи, и Ржевская так описывала царю свое пребывание у Шарлотты: «По указу вашему, у ее высочества кронпринцессы я и Брюсова жена живем и ни на час не отступаем, и она к нам милостива. И я обещаюсь самим богом, ни на великие миллионы не прельщусь и рада вам служить от сердца моего, как умею. Только от великих кумплиментов и от приседания хвоста и от немецких яств глаза смутились».
Кронпринцесса написала многомилостивому своему свекру, что так как она «на этот раз манкировала родить принца, то надеется в следующий раз быть счастливее».
Скоро пролетела пора лечения царевича Алексея на водах Карлсбада, а продолжать находиться там дальше не представлялось возможным. Случилось бы, что царь Петр запросил местных лекарей о здоровье сына, ведь не скрыли бы они, что он вполне поправился, а потому и ненадежно было обращаться к отцу с новой просьбой о дополнительном пребывании за границей для ради поправления здоровья.
Алексей помнил советы и предостережения Кикина, но как быть – не знал. Возвращаться в Россию не хотелось, но и задерживаться без спроса отца было боязно, а обращаться опять с просьбой – противно. И после некоторых раздумий решил возвратиться домой.
Повстречался он в Петербурге с Кикиным и не то с радостной встречи с ним, не то от великого огорчения, что приехал в отвратный сей Петербург, крепко выпил и удрученно говорил:
– Чую, быть мне пострижену в монастырь, снилось такое, и буде я своей волею не постригусь, то неволею постригут же. И не то что жду ныне этого от отца, а и после него того же мне ждать, что было Василию Шуйскому. Мое житье худое.
– Василий-то Шуйский до монашества царем был, а ты еще на трон не садился, – пробовал развеять его мрачные мысли Кикин. – Ты скажи, был ли кто у тебя в Карлсбаде от двора французского?
– Никто не был.
– Вот то и плохо. Жалко, что с французами не видался и к ним не поехал. Французский король доброй души, он изгнанных королей под своей протекцией держит, а тебя ему вовсе не великая трудность держать. Ну, теперь о том нечего говорить, того не воротишь. Думать надо, как тебе дальше тут быть.
– А так и быть… Отец, бог даст, не больно скоро вернется, сталоть, дни мои будут, – болезненной усмешкой кривил Алексей губы. – Стану жить – каждой минутой пользоваться, чтобы мне угодной была.
– Ну, хоть так пока, – посмеялся Кикин. – За это давай еще выпьем.
Никакой радости не проявил Алексей, мельком взглянув на новорожденную дочь Наталью.
– Девка… – недовольно произнес он и отвернулся.
Он продолжал неумеренно пить, хвастливо сообщал жене, у каких девок был, становился все невоздержаннее на язык. Грозил: